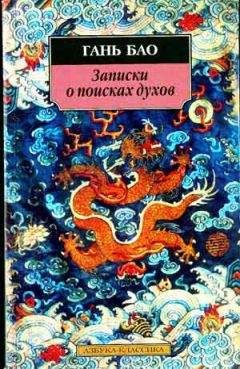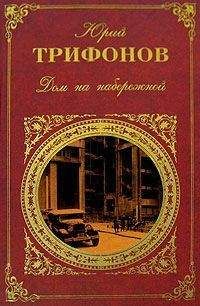Борис Полевой - До Берлина - 896 километров
Заговорили об этом сопротивлении разбитых, разрозненных частей, которое было тем более убедительно, что война-то была явно проиграна и никаких надежд даже на малую, частную победу у противника уже не было. Однако солдаты и офицеры до сих нор сдаются в плен, лишь когда нет другого выхода. Дерутся стойко, без приказа не отходят. Откуда у них эта стойкость? Что заставляет их так яростно сражаться?
— Страх, — предположил Крушинский.
— Боязнь ответственности, — сказал Борзенко.
А я подумал: фанатизм. Но, обдумав все трезво, пришел к выводу, что именно Борзенко прав больше, чем мы оба.
Есть, конечно, и страх. У эсэсовцев, у мальчуганов из гитлерюгенда, которые идут на автоматы с фаустпатронами в дрожащих руках, есть и фанатизм. Но кроме того, действует дисциплина. Получив приказ, немецкий солдат выполняет его, как бы он к нему ни относился. Это у него в крови, это от дедов, от предков, это и в злых и в добрых делах.
Все мы побывали уже в Берлине по нескольку раз, но впервые въезжали в этот город с востока. С той части, которая была за разгранлинией нашего фронта. Приходилось поминутно останавливаться, сверять улицы с планом, спрашивать дорогу.
Так постепенно и добрались мы через хаос разрушенных улиц и проспектов, где кирпичи и глыбы бетона валялись вперемешку со срубленными деревьями, до огромной площади, на которой в сутолоке танков, самоходок, военных грузовиков невдалеке от изувеченных снарядами каких-то триумфальных ворот, увенчанных бронзовой квадригой, поднималось массивное здание, такое знакомое нам всем по газетным снимкам тридцатых годов. Рейхстаг. Тяжелая, помпезная громада. Над решетчатым куполом ее действительно реял маленький красный флаг, пошевеливавшийся под свежим утренним ветром. Снизу он казался почти игрушечным в этом огромном изувеченном городе.
Поднявшееся солнце четко высвечивало здание. Оно прорисовывалось с какой-то стереоскопической ясностью на буром фоне пылающих пожаров, а недалеко от него находилось святилище нацизма, построенное в античном стиле по плану гитлеровского лейб-архитектора Альберта Шпеера, бывшего одним из первых лиц гитлеровской династии. "Национал-социалистский Парфенон", как, с легкой руки доктора Йозефа Геббельса, именовала нацистская пресса рейхсканцелярию. Но если Гитлер, любивший, когда его сравнивали с Наполеоном, по меткому выражению, походил на Наполеона не больше, чем котенок на льва, то рейхсканцелярия походила на Парфенон не больше, чем процветающий отель где-нибудь в туристском районе. Не по размерам, нет. Размер рейхсканцелярии был огромный. Не по количеству колонн. Их тоже было понатыкано достаточно. А по какой-то скупой бюргерской утилитарности, свидетельствующей о сочетании баснословных материальных возможностей с полной нищетой мысли.
Недалеко звучит канонада. Но здесь бои уже отгремели. Наши солдаты бродят по разрушенным залам рейхсканцелярии. Роскошная хрустальная люстра лежит на полу. Золоченые знаки древнеримской и нацистской геральдики превратились в куски искрошеного гипса. Солдаты вертят огромный глобус, стараясь отыскать на его пузе город Берлин. Знаем, что у этого глобуса Гитлер любил позировать фотографам. Этот глобус был украшением его кабинета. По комнатам с отчаянным видом бегает лохматый пес, которому шутник повесил на шею рыцарский железный крест, и пес, постанывая от тоски, пытается освободиться от этой награды.
Из кабинета Гитлера ступени широкой террасы ведут в сад. Разбитое полукружье фонтана, скамейки перед ним. Толпа солдат окружает прямоугольную яму пустого бассейна. В это ложе собраны тела защитников рейхсканцелярии, погибших в ее стенах. Солдаты уверяют, что среди тел этих якобы и Адольф Гитлер. Всматриваемся. Действительно, что-то похожее. Бледное лицо, челка, свернутая набок. Усики. Да, есть какое-то отдаленное сходство. Но у этого Лжегитлера поношенный штатский пиджачок, а на ногах заштопанные носки.
— Где вы его подобрали?
— Да где-то тут, на площади… Вот принесли для опознания, — отвечает нам сразу несколько голосов.
В глубине побитого артиллерией сада большой куб из бетона с массивной стальной дверью. Он как бы замаскирован яркой и нежной весенней зеленью. Это вход в подземный бункер, где провел свои последние дни Гитлер, где он в конце своей жизни, как говорят, женился, где покончил с собой, не то отравившись, не то застрелившись, а может быть, то и другое.
Мы втроем идем к этой двери «фюрербункера», как называют это подземное убежище. Часовой останавливает вас, вызывает высокого худощавого майора. Тот тщательно проверяет наши документы, сверяет приклеенные к ним фотографии с оригиналами. Лицо его сурово и непреклонно. Никого в бункер не пускать — таков приказ члена Военного совета генерала Телегина.
Но тут выступает вперед Сергей Борзенко. Его правдистское удостоверение вместе со Звездой Героя, украшающей его застиранную гимнастерку, и на этот раз производит неотразимое впечатление. Вероятно, только поэтому нас, журналистов, приехавших с другого фронта, даже в нарушение приказа члена Военного совета впускают в это последнее прибежище гитлеровских бонз.
Майор сам вызывается быть нашим провожатым.
Подземелье многоэтажное. Лестница ведет вниз. Это похоже на огромные бетонные соты, вкопанные в землю. Электричества нет. Вентиляция не работает. Тяжкая, промозглая духота. Под ногами хрустят какие-то осколки. Наш майор со сложной, незапоминающейся фамилией освещает дорогу карманным фонарем. Вот луч высвечивает на стене лестничной клетки нишу, из которой возникает молчаливый часовой. Вот массивная дверь с резиновыми прокладками и винтами. Еще один спуск. Еще один этаж. Входим в коридор. Бутылочных осколков под ногами все больше, а воздух все гуще, все тяжелее.
Луч фонаря обегает небольшой зал. Массивный стол, покрытый зеленым сукном, по стенам стулья.
— Это комната совещаний, — говорит майор. — Здесь по утрам Гитлер проводил то, что он называл военной ориентацией.
На бетонных стенах картины в массивных золотых рамках. Желтоватое пятно луча сползает к сукну стола. С одного края оно залито какой-то темной жидкостью. Ноги наталкиваются на бутылки, которые раскатываются в разные стороны, шумом своим вызывая эхо в коридоре. Прошу осветить картины. Это хорошие полотна — горные пейзажи, исполненные в манере старой мюнхенской школы. Картины на стенах этого помещения кажутся благородными пленниками на пиратском судне.
— Здесь один генерал застрелился, — рассказывает майор. — Тут взяли троих офицеров живыми. Были пьяным-пьяны. «Папа-мама» не выговаривали. Один даже пытался петь и лез целоваться к конвоиру.
В соседней комнате сияла яркая ацетиленовая лампа. Два советских офицера и девушка-лейтенант с тонким и умным личиком рылись в каких-то документах.
— Тут у них что-то вроде временного архива было. Пытались его сжечь, но, видите, почти все уцелело, — говорит майор и рекомендует нас.
Офицеры разгибают спины, потягиваются. Девушка-лейтенант усмехается:
— Опаздываете, товарищи журналисты, опаздываете. Двое из «Правды» здесь еще вчера побывали. Мартын Мержанов и Борис Горбатов. — И добавляет не без яда: — Древние римляне говорили: опоздавшим — кости.
Ужасно вредная девица. И Борзенко парирует остроту:
— А мы сюда, товарищ лейтенант, не обедать пришли. Все кости вам останутся.
Крушинский, который очень ревнив ко всяческим «фитилям» и опять же «обскокам», наоборот, шумно выражает зависть к опередившим нас коллегам.
Движемся дальше. Свернув к одной из дверей, стукаюсь лбом обо что-то металлическое. Луч фонарика с опозданием упирается в алюминиевого нацистского орла. Бедняга висит на одном гвозде боком, загораживая полированную дверь.
— Личные апартаменты фюрера, — говорит майор. — Тут они и покончили с собой. Он и его жена.
Минуем комнату дежурных охраны: диван, столик, телефоны. В открытом шкафу черные фуражки седельцем и плащи из зеленой кожи с эсэсовскими молниями на петлицах. Следующая за этой комната просторней. Потолки в ней повыше, на стене картины все той же мюнхенской школы. Старинные. Выбранные со вкусом. Что-то вроде туалетного столика, тоже старинной работы, а над ним овальный портрет Фридриха II. И карта Берлина, вся в дырочках от флажков.
Здесь темно, и фонарь нашего провожатого по очереди высвечивает все эти подробности. В заключение лучик его останавливается на двух глубоких креслах. На обивке следы собачьей шерсти. Затем мы видим продолговатый диван, по сиденью которого расплывается темное пятно.
— Кровь?
— Да, кровь, — отвечает майор.
— Но ведь он же отравился.
— Да, есть такая версия. Отравился, перед этим отправив на тот свет свою молодую жену, любимую собаку Блонди и ее щенка. Так утверждают многие из тех, кого мы захватили в бункере. Но это пока тоже только версия, прошу вас не записывать и, конечно, не доводить до своих читателей.