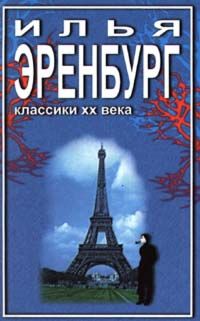Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
И господин Ней начал не кричать, но реветь, так что задрожали все японские вазочки сбежавшего в Константинополь караима Сарума:
— Он хочет тебя обесчестить! Ты понимаешь это? Как простую горничную.
— Нет, неправда! Он меня тоже любит. Он может стать моим мужем.
Здесь господин Ней не удержался: выявляя страшный сарказм, он неестественно, по-оперному захохотал. Лысина его уже начинала лиловеть, и приходилось серьезно опасаться за его здоровье.
— Мужем? Скажите! Да разве большевики могут быть мужьями? Это не мужья! Это… это… верблюды! Это хуже верблюдов — это апаши[54]! Я тебя запру! Пусть только он попробует нос сюда показать. Я его арестую! Я его повешу! Я его…
Осталось невыясненным, что еще собирался сделать с наглецом возмущенный отец. Слуга Ваня уже давно стучался в двери кабинета, но рык господина Нея покрывал все прочие звуки. Рык этот доходил и до приемной, где некий посетитель, слыша его, от страха зяб: казалось, что в доме не член французской миссии, а абиссинский лев. Наконец Ваня, которому стучать надоело, приоткрыл дверь, и в щель пролез его насмешливый носик. Этот носик и оказался общим благодетелем: он прервал тяжелое объяснение, а может быть, спас господина Нея от удара. Ваня почтительно подал своему хозяину визитную карточку, на которой было приписано карандашом: «По крайне важному и секретному делу».
У дверей кабинета Жанна столкнулась с посетителем, который был не кем иным, как Халыбьевым, кое-как принаряженным и только что выбритым. Встреча на обоих произвела хоть и разное, но равно сильное впечатление. Жанна подумала: какая отвратительная физиономия! И эта бородавка на щеке… Брр! Конечно, такая оценка являлась несколько субъективной: Халыбьев, несмотря на бородавку, пользовался у многих дам успехом.
Халыбьеву, наоборот, Жанна понравилась: аппетитная девочка! Даже слезы и растрепанные волосы скорей умилили его. По мнению Халыбьева, известная взволнованность шла молодым женщинам, она делала их более соблазнительными.
На беду Халыбьева, встреча эта длилась не дольше секунды. Жанна быстро пробежала к себе.
Полчаса спустя, прощаясь с господином Неем, Халыбьев крайне развязно сказал:
— Я здесь видел очаровательную барышню. Это, кажется, ваша дочка?
— Да, это моя дочь.
— Может быть, вы как-нибудь представите меня ей?
Господин Ней раздосадовано кашлянул:
— При деловом характере нашего знакомства я нахожу это совершенно излишним.
Халыбьев уже шагал по набережной, а господин Ней все еще покашливал от возмущения. Здесь нет честных людей! У нас был Карно. Здесь только апаши и ни одного патриота. Такому субъекту я готов заплатить, если придется, даже хорошо заплатить, но знакомить его с Жанной… Нет, положительно надо скорей уезжать в Париж!
Халыбьев же, шагая по набережной, злился: нахал! Задирает нос! Девочка, правда, приятная. Конечно, такая дорого стоит: франки, валюта. А этот папаша кинет десяток «колокольчиков», и все тут. Паскуда! Все-таки большевики молодцы, лупят вовсю эту французскую сволочь. Лягушки! Мы им еще покажем, что такое Россия! А впрочем, лучше всего пробраться в Париж. Валюту достану. Тогда держись!.. Пожалуй, и этот папенька запоет по-другому. А девочка, слов нет, очень приятная, Но главное — деньги!
Глава 5
О ЧЕМ ПЕЛ СТАРЫЙ АХМА-ШУЛЫ
В кофейной Ахма-Шулы, которую легко было разыскать, на базарной площади по оригинальной вывеске, являвшейся не то названьем заведения, не то его девизом, а именно «Придержишь Конь», было весьма людно. Сам Ахма-Шулы, меланхоличный татарин, что ни минуту подносил к шипящим в очаге уголькам медный кофейник с крохотной головкой на аршинном хребте. Служанка, русская баба Феся, жалостно зевая, разливала чай. Имелись еще черствые булки и сальные чебуреки, по отзывам конкурентов начиненные собачьими хрящами. Когда вошел в кофейную богатый татарин, Осман Сейдуль, владелец лучших фруктовых садов в Отузах, Ахма-Шулы забросил всех гостей; он стал, ритуально покачиваясь, приготовлять из специально смолотых зерен и козьего молока «кофе по-султански». Все прочие посетители могли бесплатно вдыхать живительный запах напитка. Они так и поступали. Но даже это удовольствие не веселило их. Голоса, не слова, которых никто понять не мог, так как посетители заведения «Придержишь Конь» говорили по меньшей мере на пяти различных языках, нет, тембр голосов свидетельствовал о всеобщей огорченности. Тяжелые времена!
Татарин из деревни Козы издавал особенно грустные звуки. Это был тот самый татарин, у которого веселые гвардейцы, что жили в гостинице «Крым», реквизнули накануне бочонок вина. Но и коктебельские болгары имели все основания быть недовольными: их заставили свозить даром для военных нужд дрова. Грек из Арматлука жаловался на ингушей, которые говорят, что ловят каких-то «зеленых», а на самом деле только пугают греческих мам и жрут греческих кур. Отузские немцы педантично осуждали общий непорядок: винтовки сделаны не для того, чтобы среди бела дня стрелять в немецких молочных коров. Солдаты Фридриха Великого так не поступали! Что касается русских из Султановки или Насыпкоя, то они ни на что не жаловались. Потея от Фесиного чая, они или смачно ругались, или горько вздыхали. Было ясно, что им хорошо знакомы обиды этих разноязычных людей, но что ко всему у них имеется еще одна, главная и никакими словами не выразимая: наболело вот тут, где в точности, неизвестно, но очень наболело!.. Даже богатый татарин, похлебывавший знаменитый «кофе по-султански», и тот не радовался ни сладости, ни аромату напитка. Что ему кофе? Что ему все персиковые деревья Отуз, когда его единственного сына, ушедшего в горы к «зеленым», убили злые пришлые люди? Проклятые времена!
Только два человека, с виду похожие на мелких базарных торговцев, мирно пившие в углу кофе, не принимали никакого участия в этих сетованиях. Очевидно, политика мало их занимала. Они частенько поглядывали на дверь, кого-то поджидая, может быть, спекулянта, скупающего шнурующиеся доверху сапоги и теплые верблюжьи фуфайки, которые присылало в Феодосию наивное начальство господина Альфреда Нея для успешного ведения мирной войны.
Взглянув на них разок, старый Ахма-Шулы подумал: что ж, эти зашибают деньгу!
Ахма-Шулы ошибся, но ошибка его вполне простительна. Разве Жанна вчера не приняла Андрея за самого заправского офицера? Окажись девушка сегодня в этой кофейной, она бы, пожалуй, и вправду решила, что Андрей торгует на соседнем базаре краденой амуницией. Это делает честь искусству Андрея: он был хорошим конспиратором. Сейчас никто не узнал бы в нем залихватского поручика, утром прискакавшего из Отуз. Сидел же с ним Никита, черноморец, дезертир, человек смелый и отменный добряк. Как-то Андрей, скрываясь, провел с ним неделю близ Алушты в горах, там они и подружились. Ждали… Кого ж они ждали? Кого-то по очень важному делу, из-за которого Андрей и остался в Феодосии, хотя должен был прямо проехать в Керчь.
Действительно, вскоре в кофейную вошел молодой паренек и, тщательно пересмотрев все столики, пробрался в угол, где сидели поджидавшие его люди. Это был Ваня, слуга Нея, сегодня утром спасший своего хозяина от апоплексии. Странное сочетание — Андрей и кто-то оттуда, из виллы «Ибрагия», где плачет обиженная отцом, измученная своей любовью маленькая Жанна. Но Ваня не передал трогательно смятой записки. Андрей и не ждал этого. У них были совсем другие дела: Феся поставила на стол стакан чая, отчаянно при этом зевнув. За столиком началось шушукание: наверное, продают фуфайки!
Тихонько Ваня выкладывал:
— Важные документы… я все слышал… продал какой-то мерзавец…
Андрей помрачнел.
— Надо отнять.
— Да, но только сегодня ночью. Завтра уходит дипломатическая почта — отошлет.
Никита спросил:
— А ты дверь нам откроешь?
— Открою.
Ваня спешил: его послали на одну минутку в магазин Зезона за лимоном. Господин Ней, обессиленный утренней беседой со строптивой дочкой, решил подкрепить себя стаканом доброго грога.
Когда Ваня ушел, Андрей, немного помявшись, сказал:
— Слушай, Никита, постарайся, чтобы там было сухо. Убивать ведь не будем?
Никита удивился, даже подбородок почесал.
— Там твоя родня, что ли?
— Нет. Какое там! У меня только жена в Москве, а больше никого на всем свете. Чисто.
— Ну, не родня, так знакомые? Ваня говорил, что у этого французика славная дочка. Может, ты с ней?..
— Я ее и в глаза не видал. Просто говорю, что трогать не стоит: взять бумажонку — и все.
Кажется, Никита усмехнулся: он был немолод, много плавал и много видел. Он знал людей. Но может быть, это Андрею и показалось, а Никита вовсе не усмехался. Кажется, даже, наоборот, он грустно наморщил обветренный лоб. Во всяком случае, прощаясь, матрос сказал: