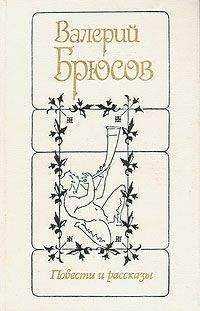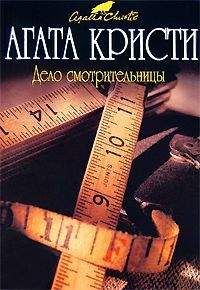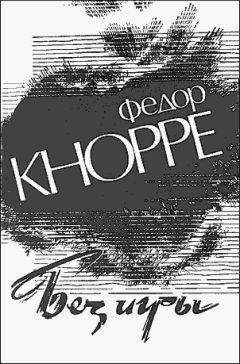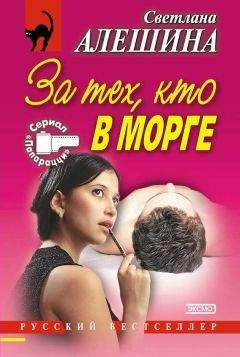Федор Кнорре - Рассвет в декабре
— Это ты-ы? Ты ее вытаскивал? Наверное, «Незнакомка». Нет?.. Вот кто, значит, у меня книжки таскал, а потом потихоньку на место всовывал?.. — с облегчением договаривала уже из своей комнаты Нина, залезая на табуретку, чтоб дотянуться до верхней полки.
Вернулась она, перелистывая книжку.
— Вот, нашла… «Боль проходит понемногу…» Да, я читала, но не обратила внимания… вот: «чтоб в последний раз проплыли мимо, сонно, как в тумане, люди, зданья, города… Чтобы звуки, чуть тревожа легкой музыкой земли, прозвучали, потомили над последним миром ложа и в иное увлекли…» — Нина исподволь, тревожно метнула взгляд на отца. — Конечно, я все время слышу; знакомое. Это грустно?.. — несмело спросила она.
— Нет, это точно. И хорошо.
— Да, понимаю. Ты тихонько вспоминаешь, что было. И чего нет. И… хорошо?
Он утвердительно прикрыл веки.
— Тогда и я могу договорить, чего мне прятаться? Пока ты, так нескладно, часто путано, рассказывал… Я ведь понимаю, ото ты не мне, ты себе вслух вспоминал, я тебя по полночи не отрываясь слушала и все думала, знаешь о ком? О ней… Честное слово… О, милая, сумасшедшая, спасибо, что ты все-таки у него была, хоть когда-то, раз в жизни, была ты. а не одна эта до одури благополучная, гладко накатанная, как асфальтированная дорога, трехкомнатная жизнь: лифт, телевизор, квартальный план, жена, хоккей, обед, пятый этаж главка, премия, путевка в Крым, отпуск, и так все снова, все снова, и в конце концов амбулатория, больница и о-ох!.. — она одним духом, как автоматную очередь, выпустила серию свысока презираемых ею слов и тут же уловила звук поскребывания ключа, нашаривающего узенькую щель дверного замка.
Он тоже услышал.
Нина мгновенно бесшумно отодвинула близко придвинутое к изголовью кровати кресло, мягко захлопнула книгу и выскользнула за дверь. Через несколько секунд она, уже без книги, спокойно выходила в прихожую навстречу матери.
Та, поспешно притворив за собой дверь, спросила торопливым шепотом:
— Ну, что у вас тут? — Обе руки ей оттягивали тяжелые, туго набитые хозяйственные сумки.
— Да что с тобой? — чуть попятилась от удивления Нина. Очень уж у матери были отчаянные, испуганно-вопрошающие глаза. — У нас все ничего. Он задремал, кажется.
Глаза медленно закрылись вместе с долго задержанным глубоким выдохом облегчения. Выпущенные из рук сумки с мягким стуком шмякнулись об пол.
Нина подхватила второпях наброшенное мимо крючка вешалки пальто матери и машинально, все еще с легким недоумением, обернувшись, смотрела ей вслед, когда она неслышно вошла в комнату к отцу и, наклонившись над ним, долго прислушивалась к его дыханию. Он дышал ровно, с закрытыми глазами. Тогда она протянула руку и странным, нежным и робким движением плавно обвела ладонью вокруг его головы, как будто погладила, даже не прикоснувшись.
От неловкости, будто нарочно что-то подсмотрела, Нина поспешила отвернуться, наткнулась на сумки и сделала то, чего обычно не делала: подхватила их с пола, отнесла на кухню и стада разгружать, выкладывая масло, курицу с длинной шеей, пакеты с крупой и сахаром на стол.
— Что это ты сегодня так рано? — минуту спустя спросила она вошедшую в кухню мать не оборачиваясь, расставляя и снова переставляя в шахматном порядке пакеты на столе.
— Ему не было плохо?
— Да нет же… он спал, потом проснулся, поговорили немножко перед твоим приходом. Я все ему дала, что полагается.
— Да?.. Ничего не было?.. — еще недоверчиво хмурясь, опять спросила мать. — Ну, слава богу. Я что-то места себе не находила. С работы сбежала. Со скандалом. Помчалась домой.
— А куру, и сахар, и крупу по дороге все-таки купила?
— Напрасны эти сарказмы. На работе девочки теперь мне покупают и утром приносят.
— А я потом все это лопаю.
— Вовсе я не то хотела сказать. Наоборот, ты очень много… Ты хорошо дежуришь у отца. Ты не высыпаешься.
— Я сижу, лекции читаю. Привыкла по ночам. Мне это ничего. Чай будем пить?.. Кофе лучше? Я поставлю.
Тяжело облокотившись на кухонный столик, мать рассеянно следила за Ниной, пока та кипятила кофе, резала хлеб.
— Ты похудела.
Нина равнодушно передернула плечом.
Сидя друг против друга у маленького столика, за которым обычно помещалось три человека, они пили кофе, намазывали масло на хлеб и долго молчали, как привыкли всегда молчать за этим столом.
Все двери были раскрыты так, чтоб они могли услышать малейший звук из комнаты, где лежал Алексейсеич.
— Он о чем-нибудь с тобой… говорил? — беззаботно прихлебывая маленькими глотками из чашки, спросила мать, настороженно ожидая ответа.
Нина усмехнулась снисходительно:
— Думаешь, опять об этой девочке. О Леле? Нехлюдовой? Нет, не беспокойся, не говорил. Вообще он, кажется, никогда не возвращается к тому, что однажды вспомнил.
— Я и забыла о ней. Больше нет заботы. Да и пускай.
— Ты к своей Маргарите поедешь?
— Сил нет. Не поеду… Надо бы съездить… Может быть, поеду. Тебе никуда не надо уходить?
— Никуда. Можешь спокойно ехать. По-моему, она тебя поймала и бессовестно эксплуатирует. Ну, это мое частное мнение.
— Если бы я однажды не вошла к ней в комнату, не увидела ее, не узнала бы ничего, — у меня тоже было бы такое частное мнение. А я, к несчастью, вошла, увидела и узнала.
— У нее родственники есть, насколько я знаю.
— Ходит ее навещать одна только старушонка, чашки у нее из буфета поворовывает. Да тебе это неинтересно.
— В общем, сейчас — да. На кой пес ей чашки?
— Ни к чему. А она плачет, трясется, что унесут еще какую-нибудь чашку — кувшинчиком, с золотым ободком. Мучается, что останется лежать без чашек. Тебе это нелепо кажется? Мне тоже. А она покоя не знает, стережет. На меня надеется.
— Она что? Совсем того? Из ума выжила?
— Нет, не совсем. А чашки она мечтает оставить в наследство внучке, которая ей на письма уже лет пять не отвечает.
— Ну их к черту. Лучше такого не знать.
— Лучше. А вот куда деваться, когда узнал?.. Раз ты дома, а с работы я все равно сбежала, придется мне к ней хоть на полчасика съездить.
…Зачем это я дочери про чашки рассказала, зачем вообще я ей объяснять что-то стараюсь, точно оправдываюсь. Бесполезно кому-нибудь пытаться объяснить, почему это ты не можешь, взять да и оборвать, отвязаться совсем, бросить эту противную, осточертевшую, слезливую дуру, Маргариту, временами совсем полоумную, а временами, еще того хуже, очень хитро лживую.
До чего же зорко она подметила и научилась пользоваться семейным альбомом, в котором хранились фотографии маленького Алеши. На одной он стоял в мятых трусиках среди какой-то семейной компании, по уши впившись в большущий ломоть арбуза, так что из-за полукруглой корки высовывался только нос. На других его лицо было маленьким желтоватым пятнышком среди множества других таких же. И только на одной он был виден отлично: сидел, поджав под себя ногу в тупом башмачке с пуговками, и держался руками за маленькие львиные мордочки на ручках нарочно для съемок поставленного у фотографа парадного кресла…
Эту никому не нужную карточку удалось у нее выпросить как милость, не столько в вознаграждение, а скорее в залог будущих услуг, и теперь ее можно было разглядывать сколько угодно потихоньку, когда Нина дежурила у постели Алексеисеича, вполголоса с ним иной раз переговаривалась, и потому ей неудобно было входить к мужу, прерывать их разговор, как будто она ревнует к нему дочь. Неловко в особенности потому, что она, кажется, и вправду ревновала.
Лицо мальчика на карточке было серьезное и круглое, детские глаза смотрели в объектив как будто удивленно, видимо не понимая, что там впереди. На руке, накрывшей деревянную львиную мордочку, еще не было шрама от ожога, и сердце щемило, когда она думала, что вот тут, от четвертого маленького пальца, через всю кисть до запястья, потом пройдет грубо стянувший кожу продавленный след крепко прижатой к ней раскаленной полосы железа.
Она никому не показала карточки, тщательно ее прятала от дочери. Уж этот-то, маленький, был ее нераздельно. Ни с кем делить его не надо.
Разве она могла объяснить другим, что это фото и пустяковые обрывистые рассказики о том, что Алеша любил до самозабвения в детстве лимонад и однажды опозорился в гостях, съев яичницу из десяти яиц, тоже привязывают ее к тетке.
Ей не понять, думала она о дочери, никто этого не поймет, никому нет до этого дела, и не надо.
Она встала, ловким привычным движением подхватила чашки, поставила их в мойку и открыла кран горячей воды.
— Вот ты действительно похудела, — беспристрастно приглядываясь, заметила Нина. — Совсем девочка стала.
Мать, не оборачиваясь, мыла чашки.
«А ведь и вправду она, оказывается, очень похудела, — продолжала думать Нина. — И как-то скорбно помолодела. Наверное, все-таки она в глубине души по-своему его любит. Или думает, что любит… Или любила когда-то? — Она попробовала себе снисходительно представить это «когда-то», когда отец с матерью могли любить друг друга, но получалось только что-то очень скучное. — И ничего она о нем не знает, наверное. Даже имени этой девочки Лели не знала. Только притворилась, что слыхала».