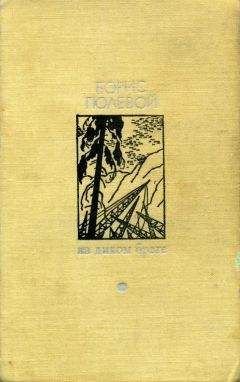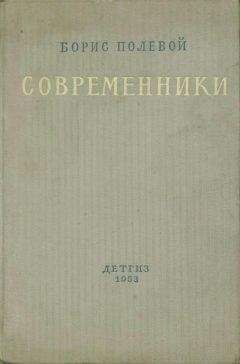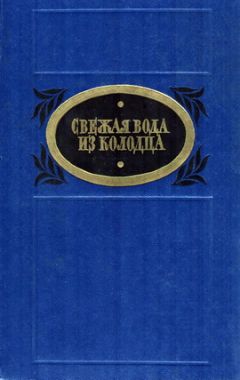Борис Полевой - На диком бреге
Порывшись в кармане, девушка достала складной нож, поднялась, срезала прямой можжевеловый прут и, очистив его от коры, стала остругивать.
— Шомполок сделаю, прочищу,
— А это что такое — проклины? Почему?
— Так уж вышло. Любовь такая была. Бабка моя, а потом моя мать — обе убежали без родительского благословения. А ведь это. у староверов, ух, как каралось… У нас ведь Седых чуть ли не целая улица, так нас так раньше и звали — Седые Клятые… Не слышали?
— Ну, а он тебе нравится, этот Анатолий?
— Тольша? Хороший. За него на молодежных выселках любая побежит… Видный… Дед Савватей говорит, будто его, этого Тольшу, отец заместо себя в председатели натаскивает.
— Как натаскивает?
— Ну, как умная сука своих щенков на птицу или на зверя… Лисицы лисят тоже натаскивают… Ой!
Разговаривая, Василиса продолжала строгать, рука сорвалась на крепком сучке, и острый ножик рассек девушке мякоть ладони, рассек так, что часть этой мякоти отделилась, и вся рука мгновенно залилась кровью. Дина сложила в жгутик носовой платок и плотно перехватила запястье. Ток крови утих. Девушка помотала головой и сказала сквозь зубы, показывая глазами на дерево с пушистой кроной, стоящее невдалеке.
— Пихтач… Сколупните со ствола свежей смолки, принесите. Только быстро. — В голосе слышались повелительные нотки.
Дина перебралась через сугроб к дереву и действительно увидела с солнечной стороны натеки прозрачной смолы. Она сняла пахучую слезинку величиною в лесной орех. Василиса сидела в той же позе, с таким же спокойным лицом, только румянец сошел, и оно стало белым.
— Погрейте смолку в ладони.
Душистый комок стал мягким, липким. Тогда девушка одной рукой сделала из него лепешку и быстрым движением положила себе на раненое место… Кровь перестала течь.
Несколько минут просидели молча. Потом, осторожно держа перед собой раненую руку, девушка неторопливо подняла, закрыла о колено нож. Убрала его в карман, взяла палки под мышку, встала на лыжи:
— Пошли.
Чудодейственное свойство простой смолы, спокойствие девушки и то, что сейчас Василиса двигалась по старому следу без палок так, что Дина еле поспевала за ней, — все это произвело впечатление. «Интересный край, удивительные люди», — . раздумывала Дина, стараясь не отставать. Вот за просторной лесной поляной они. увидели в розоватой дали, в кронах плакучих берез, сквозь которые сочились лучи садившегося солнца, какие-то черные и будто бы шевелящиеся пятна. Василиса смотрела на них точно завороженная, даже ноздри вздрагивали.
— Тетерева, — чуть слышно произнесла, точно выдохнула она. — Березовую почку жрут… Попробуйте, а? Я тут постою… Не подпустят только, они сейчас сторожкие. Снег выдаст.
Дина даже возмутилась.
— Оставить тебя раненую из-за каких-то тетеревов…
И будто в ответ на ее слова большие тяжелые птицы взмахнули крыльями. И вот они уже летели в глубь леса, и только тек с деревьев потревоженный ими иней, розовея на солнце.
Дальнейший путь совершали молча. Только когда лыжня вывела их на проселок, а потом на шоссе, в ту самую марсианскую его часть, где даже сквозь снег все казалось черным, где рыча проносились один за другим огромные самосвалы, девушка остановилась, подождала спутницу и тихо спросила:
— А он знает про это — про больших и малых людей, про крылья?
— Вячеслав Ананьевич? Конечно, знает, то есть, конечно, не знает. Но в общем-то у нас, конечно, были об этом разговоры. — Дина чувствовала, что краснеет. — Идем, идем, я дома сменю повязку, промою рану, наложу лейкопластырь.
— Не надо, Диночка Васильночка. Смолка с пихтача — и пластырь и дезинфекция… Но простите меня, а он с этим согласен?
— С чем с этим?
— Ну, что он — большой, а вы — маленький человек.
— Есть вопросы, которые задавать неприлично. — Дина произнесла это как можно строже.
Василиса сейчас же, как улитка, ушла в свою раковину, а когда это случалось, ее трудно было оттуда выманить. Шли молча по тем участкам тайги, которые теперь были уже круглые сутки полны" стука топоров, звона пил, дроби пневматических молотков, разноголосого гула моторов. И Дина старалась понять, почему эта девушка Есегда как-то настороженно, будто даже неприязненно, относится к Вячеславу Ананьевичу.
Правда, в первый день пребывания Василисы в домике на Набережной произошло маленькое недоразумение. Вячеслав Ананьевич, обрадованный тем, что наконец так удачно решался «проклятый вопрос» с домработницей, еще до прибытия Василисы посоветовал жене сразу же договориться с ней заблаговременно об обязанностях и об оплате,
— Какая же оплата, я пригласила ее быть моей гостьей. Мы будем с ней заниматься немецким языком, и вообще это неудобно как-то… Оплата…
Вячеслав Ананьевич, улыбаясь, смотрел на жену.
— Ты совсем не знаешь жизни, дорогая. Мужики есть мужики, даже когда они и колхозники. Когда ты жила у этих Седых, мы же платили и за квартиру и за питание. Тебе дали на дорогу рыбу и мед, я рассчитался с этим Ваньшей. А Василиса, что же… ну, поломается, конечно, для виду, но вот увидишь, возьмет. И вообще, что в этом плохого, мы живем в социалистическом обществе, деньги не отменены, и, наконец, я, как коммунист, не имею права допустить, чтобы кто-то работал на меня бесплатно…
Все это было убедительно. Дина неохотно согласилась, но попросила мужа потолковать об этом самому. Тот только повел плечами — пожалуйста.
Когда на следующий день Ванына привез сестру и она, раскрасневшаяся с дороги, спокойно и с интересом осматривала вместе с Диной домик, Вячеслав Ананьевич завел разговор о материальных, как он выразился, делах. Девушка вопросительно посмотрела на Дину:
— Ведь такого уговора не было.
— Но мы же не имеем права эксплуатировать вас, Василиса Иннокентьевна, — сказал Пе-1 тин. — Партийная совесть не позволяет мне присваивать даром чей-нибудь труд. Вы, вероятно, слышали, что есть такая наука — политэкономия…
— Слышала, есть, — ответила девушка. Дина вся съежилась, чувствуя, будто при ней водят ногтем по меловой бумаге.
— Василек, милый, соглашайтесь. Вячеслав Ананьевич прав. Он не имеет права… — В спокойном течении разговора Дина начала чувствовать какие-то скрытые противоборствующие токи» которые вот-вот могли прорваться наружу. — Василечек, мы так хорошо будем жить… Ты будешь помогать мне, я тебе. Ну согласись ради меня.
— Хорошо, — сказала девушка. Петин с удовлетворением посмотрел на жену. — Сколько вы мне положите?
— Василиса Иннокентьевна, поверьте, мы вас не обидим… Дорогая, сколько у нас получала Клаша?
— Ах, какое это имеет значение? — почти выкрикнула Дина, густо краснея.
— Нет, почему же, это важно, — неожиданно подтвердила Василиса. — Я завтра узнаю, сколько стоит в учебном комбинате урок языка. Мне тоже придется платить. Вот и надо знать, хватит мне денег или надо съездить на Кряжой.
Так ничем и кончился тогда этот разговор. Его постарались замять. И вот теперь, вспомнив эту сцену, Дина думала: неужели девушка не забыла. Почему она так насторожена в отношении Вячеслава Ананьевича. Почему она в его присутствии меняется, замолкает, уходит в себя. Он хорошо к ней относятся, шутит, задает ей иногда вопросы по-немецки, даже занимается с ней в свободную минуту. Он отличный педагог. И сегодня такой хороший, светлый денек, она так славно говорила о весне, и вдруг эти странные надоедливые вопросы. С Литвиновым, с Надточиевым она совсем другая. И будто в ответ на эти мысли снег скрипнул под колесами затормозившей рядом машины. Лимузин Литвинова обогнал лыжниц и остановился немного впереди; В опущенное стекло высунулась голова начальника.
— Ну как, товарищи Дианы, повыдохлись? — кричал он им из машины. — Идите, так и быть уж, подкину. Дичи у вас столько, что до дому и не дотащить.
Он захохотал, а Петрович тем временем принимал ружья, пристраивал в машине лыжи. Василиса продолжала упрямо молчать, и, тяготясь этим, Дина Васильевна говорила с преувеличенным усердием:
— Петрович, а где же ваше «битте дритте»? Мы обижены таким невниманием…
— Не трогайте нас, мы влюблены, — хохотнул Литвинов. — Да, да, Дина Васильевна, еще как. Бывало, в баню разве только пулеметными очередями загонишь, теперь — каждую субботу. Одеколоном всю машину продушил, житья не стало. И знаете, в кого?
— Федор Григорьевич, очень даже неблагодарно с вашей стороны. — Странно было слышать в тоне присяжного зубоскала нотки обиды.
— Молчу, молчу, — похохатывая, ликовал Литвинов и умышленно надтреснутым голосом пропел:
…Ах, зачем эта ночь
Так была хороша.
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.
И вдруг по каким-то особым, лишь ему одному приметным, признакам угадав настроение девушки, спросил: