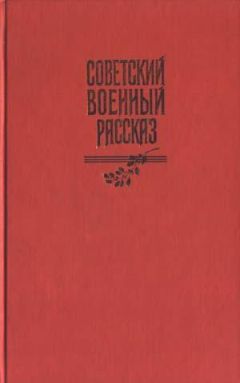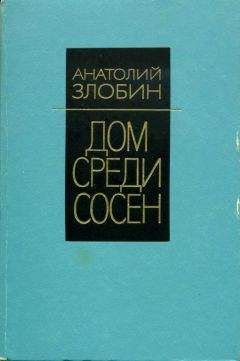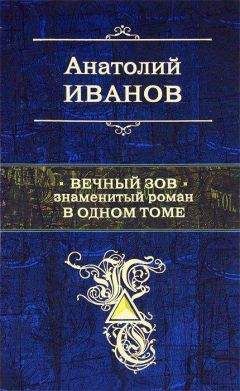Анатолий Иванов - Вечный зов. Том II
— Мы не померли ещё, — сказал Семён упрямо, стараясь возразить кому-то, но только теперь не дяде Ивану.
— Ну, это живо может произойти. Жалко мне только Агату, Сём… Ясного света тогда и вовсе не увидит…
Где-то вверху загудел противно, приближаясь, вражеский самолёт, заглушив последние слова Ивана. Самолёт брызгал вниз тяжёлыми свинцовыми каплями, они прошили землю в двух метрах от Семёна, с рёвом пронёсся над головой, блеснув жёлтым, как у застарелой щуки, брюхом. Тотчас густо ударили немецкие автоматчики.
— Вы, Савельевы! — Алифанов, надрываясь от крика, повернул к ним круглое, но какое-то исхудавшее лицо со странно торчащим правым усом. — Шанс у нас, ежели он есть, один. Вдоль этой дымной полосы от нашего танка… Попытаемся!
Их КВ горел не очень сильно, но чадил густо, тёмная дымная полоса стлалась вдоль земли в сторону Соборовки, накрывая маячивший неподалёку перелесок. Иван и Семён поняли, о чём говорит Алифанов, но ведь кто знает, где немцы… Не шарит ли этот дымный хвост по окопавшимся в той стороне немцам? Да и в перелеске могут быть уже фашисты. Но шанс был действительно только этот, если он ещё и был. Это не только Алифанов, но теперь и Семён с Иваном сознавали отчётливо.
— Ну что ж, Семён…
— Счас они полезут! — опять прокричал Алифанов, отталкивая бесполезный теперь ручной пулемёт с расстрелянным магазином. В ладони у него была зажата граната, такая же, как и у Ивана, другой рукой он вытаскивал из кобуры пистолет. — Давайте мы их уложим к земле — и дёру. Иначе…
— Командира-то с Вахромеевым оставлять им…
Это прокричал Иван.
— А что мы можем? Ты соображаешь?! Приготовиться!
Сделать они действительно ничего не могли, вытащить из танка трупы Дедюхина и Вахромеева было невозможно. «Вот судьба…» — больно задолбило Семёну в виски. Там, внутри этой железной коробки, обуглятся их тела, а может, сгорят в прах, нечего будет и хоронить. И не будет на земле их могил. Сгорели в пекле войны… Сгорели в пекле войны… Вот уж точно — в самом пекле они сгорели, такая выпала им доля… Когда-то родились они, в радостях и заботах нянчили их матери, защищали от холода и от жары, от всяких напастей, росли они, радуясь солнцу и ветру, далёким, таинственным звёздам и мягкой, пахучей траве. И росли для них где-то девчонки, как вот Наташка для него, Семёна… Настал момент, прикоснулись их руки впервые к самому, может, прекрасному на земле — к женскому телу. Когда и как это было у Дедюхина, Семён не знает, ему только известно, что у старшего лейтенанта, кажется, трое детей… А у Вахромеева это случилось недавно, всё произошло почти на глазах у Семёна. И он, Семён, видел, как быстротечно произошла у Вахромеева с Капитолиной вся любовь. Он видел и понимал, что это у них настоящее и человеческое, только вышло всё стремительно, не как обыкновенно, — будто бешено понеслась жизнь, как на киноэкране, если плёнку прокручивать в десять раз быстрее. Что ж, оба понимали, что для обыкновенной любви у них не было времени, хотя никогда об этом не рассуждали, не размышляли… И ни Вахромеев, ни Дедюхин не знали, не могли знать, что жизнь их окончится вот здесь, на изрытом бомбами и снарядами поле, близ русской деревушки Соборовки, о которой они и слыхом никогда не слышали, что тут ждёт их такой конец…
Все эти мысли пронеслись в голове у Семёна лихорадочно, в какие-то секунды, не отключая его внимания от залёгших в нескольких десятках метров немцев, которые беспрерывно поливали из автоматов. Пули вокруг взрывали землю, трещали о броню танка, и Семён даже слышал, как некоторые рикошетили и с пронзительным визгом разлетались в стороны. Было только странно, что ни одна из них не задела ещё ни дядю Ивана, ни Алифанова, ни его самого. И ещё мелькнуло у Семёна, что судьба у него пока счастливая, радуйся, Наташка… Только бы вот из этого пекла выбраться!
…Что ж, из этого пекла Семён и Иван Савельевы выберутся живыми и невредимыми, сейчас, когда немцы поднимутся для броска и в эту секунду немного ослабнет их огонь, Алифанов яростно прокричит: «Дав-ва-ай!» Он, Семён, и дядя Иван начнут палить из автоматов, немцы опять залягут. В это время Алифанов и дядя Иван бросят по одной гранате. Немцев они не достанут, но на несколько мгновений ослепят, и этих мгновений будет достаточно, чтобы всем троим юркнуть за горящий танк. Потом они нырнут в густую полосу дыма и, разогнувшись там во весь рост, побегут, как в густом тумане, неведомо куда, задыхаясь и от дыма, и от быстрого бега. Пули будут свистеть вокруг, но опять никого не заденут, только потом, уже в перелеске, где немцев, на счастье, не окажется, когда каждый радостно подумает: «Неужели выбрались?!» — Алифанов вдруг застонет как-то негромко, радостно, выронит пистолет, схватится обеими руками за тонкий берёзовый стволик и повалится столбом в сторону, на Ивана, до самой земли согнув податливую берёзку, так и не выпустив её из коченеющих пальцев, так и умрёт, будто в обнимку с ней… Из этого пекла они выберутся и принесут к своим бесчувственное тело Алифанова с простреленным затылком, дядя Иван, обожжённый, с окровавленным чужой кровью плечом, прохрипит какому-то пехотному капитану: «Вот! Герои тоже умирают иногда… от пули в затылок», — и Семён ещё раз подумает, ощущая радостный, облегчённый холодок в животе, что судьба у него счастливая. Откуда же ему было знать, что, хотя и ни одна пуля его не заденет и в дальнейшем, судьба у него сложится так, что он не раз позавидует и сгоревшим в танке Дедюхину и Вахромееву, и погибшему от шальной пули в затылок Алифанову… Этого он не знал, как ни один человек не знает, что ему написано на роду, что готовит ему судьба завтра, послезавтра, через год, через двадцать лет… Он пока лежал, вжавшись в землю, горячую, разогретую то ли бомбами и снарядами, то ли полыхающим где-то за дымами, затянувшими густой пеленой всё небо, жарким июльским солнцем, слушая, как грохочет над головою о броню их сгорающего танка свинцовый горох, смотрел на Алифанова. В левой руке у того был пистолет, в правой — граната…
…Немцы поднялись кучками все враз. Алифанов повернул к Семёну перекошенное в крике лицо, одновременно махнул пистолетом:
— Да-ва-ай!
* * * *
Анфиса Инютина всю ночь не спала, одиноко ворочаясь на широкой деревянной кровати, слушала, как сопит в углу Колька, сын, разметавшийся на старом тощем матраце, брошенном прямо на крашеный пол, как кашляет за дощатой дверью эвакуированная из Одессы еврейка-учительница Берта Яковлевна, поставленная к ним на квартиру через несколько месяцев после ухода Кирьяна на фронт. Учительница была не очень старая, неопрятная, много курила, роняя пепел на бугристую грудь, затянутую обычно засаленным чёрным халатом. Вместе с ней жили две её шестнадцатилетние дочери-двойняшки Майя и Лида, носатые, глазастые, обе такие же, в мать, крупногрудые, по характеру общительные, хохотуньи. Все втроём жили в крохотной Вериной комнатушке, в которой невозможно было повернуться, дочери спали на тесной кровати, а сама мать — на сундуке, подставляя к его краю два чемодана, чтобы с сундука не свисали ноги. Днём чемоданы ставились на сундук.
С вечера захлестал ветер, потом утих, в стёкла начали стучать одинокие и тоскливые капли дождя. Анфисе захотелось отчего-то плакать, в груди было пусто, неприютно, как на ночной деревенской улице в эту вот непогодную летнюю ночь. Она лежала, скрестив на мягком животе усталые руки, закусив губы, чтобы не расплакаться. Потом дождь припустил, за окнами словно кто-то принялся мотать лейкой, обливая чёрные стёкла. Анфиса будто только этого и ждала и под неприютный шум дождя облегчённо и беззвучно заплакала.
Дождь кончил барабанить по стёклам, и она перестала плакать, вытерла горячими пальцами слёзы, перевернулась на бок и стала думать о Кирьяне, о детях, о всей своей жизни — несладкой, неудавшейся и безрадостной. Кто она и зачем она на земле? Эта мысль пришла к ней неизвестно когда, поселилась в ней незаметно и стала мучить жестоко; внутри, в самом сердце, шевелилось, ворочалось что-то беспокойное и безжалостное, больно обдирая самые чувствительные места. Она перебирала в памяти всю свою жизнь, пытаясь отыскать там хоть щёлочку, из которой пролилось бы сейчас на неё что-нибудь тёплое, обогревающее радостью, но такой щёлки не было. Всё позади было мутно и омерзительно. Жили зачем-то в этой мутной пелене Фёдор Савельев, Кирьян, её муж, Анна, жена Фёдора, и она сама, Анфиса. Она по первому взгляду, по первому намёку бежала, потеряв голову, к Фёдору, отдавалась во власть его безжалостных рук, не страшась побоев Кирьяна, пересудов людей. Фёдор мял и крутил её, как тряпку, ей было хорошо и приятно, а вот теперь, задним числом, пришло вдруг омерзение ко всему этому, пришла жалость к Кирьяну, не любовь, не стыд и раскаяние за прошлое, а просто мучительная жалость, в ней прибывало желание остатком своей жизни оплатить все страдания Кирьяна. Ей не надо его прощения, такое, наверное, простить невозможно, и пусть, это даже хорошо, что она каждую минуту будет чувствовать свою вечную вину, но тем сознательнее… и тем старательнее она её будет оплачивать. Пусть не прощает, но пусть возьмёт во внимание, что Верку и Кольку она от него родила. «Господи, — взывала она молчаливо, в исступлённой благодарности к кому-то, — как ещё на это у меня ума хватило! Тогда бы и вовсе хоть в петлю…» Хватило, наверное, потому, что Кирьян — Анфиса всегда это понимала — душой добрый, отзывчивый. Она у него, душа, беспомощная и сильно ранимая, и, когда он остервенело хлестал её, пьяный, где-нибудь в кустах или в тёмном сарае, Анфиса чувствовала, что ему самому больнее, чем ей, что он себя истязает каждый раз тоже до крови, только кровь сочится у неё снаружи, а у него внутри. И вот это странное чувство никогда не позволяло ей сердиться на мужа за самые зверские побои. Он бьёт её, бывало, а ей его жалко, и чем сильнее бьёт, тем сильнее её жалость к нему. Однажды, ещё когда в Михайловке жили, Кирьян откинул прочь смокший в её крови ремень с железной пряжкой, сел в кустах на землю, уронил голову и бессильно заплакал. Она, в кровоподтёках и вздувшихся багровых рубцах, с трудом поднялась, подошла к нему, пошатываясь, одной рукой поддерживая лохмотья кофточки на груди, а другую протянула, погладила его, как маленького, по голове, всхлипнула: