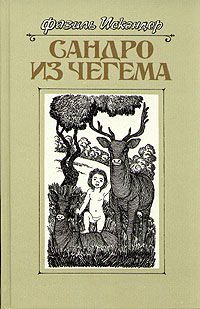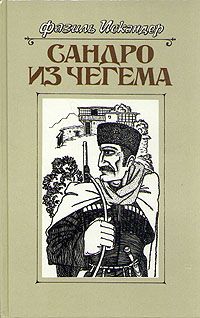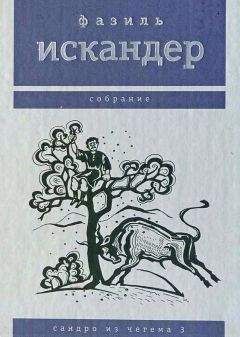Фазиль Искандер - Сандро из Чегема. Книга 2
Он зашел на кухню, разгреб спрятанные в золе еще не погасшие угольки, потом вышел на кухонную веранду и принес оттуда охапку дров и сухих веток. Сгреб угольки и, дуя на них и накладывая сверху пучок наломанных веток, выдул огонь и, когда он как следует занялся, подложил дров.
Потом он зашел в кладовку, где на стене гирляндой висела низка сухого табака. Выдернув из нее охапку листьев и вернувшись на кухню, он сел верхом на скамью. Беря из вороха табачных листьев по одному листу, он клал его на скамью, разглаживал своей большой ладонью, а затем придавливал растопыренными пальцами, другой же рукой, взявшись за черенок, осторожно, чтобы не повредить лист, отпарывал его вместе со всеми прожилками, вылезающими сквозь его растопыренные пальцы. Отпарывая черенки, он аккуратно складывал листья, как складывают деньги, и, может быть, получал от этого не меньше удовольствия, чем торговец, приводящий в порядок шальную выручку, или удачливый игрок. Потом он перегнул всю пачку, что тоже нередко проделывают владельцы денег, и не только шальных, и, вынув свой нож, с хрустом перерезал ее, что полностью исключает всякое, даже отдаленное сходство с действиями владельцев денег.
Сложив перерезанную пачку листьев и сравняв их по срезу, он стал тонко состругивать табак. Нарезав его до последнего маленького комочка, который он вместе с черенками отшвырнул в огонь, он разрыхлил и распушил руками кучерявящиеся стружки табака и, вынув из кармана свою большую кожаную табакерку, плотно набил ее.
Как и всякому истинному курильщику, эта возня с табаком доставляла ему удовольствие. Он вынул клочок газетной бумаги, оторвал от нее на цигарку, промял в пальцах, насыпал табаку, свернул, прикурил от огня и с удовольствием затянулся.
Вошла жена с полным ведром молока.
– Пора бы разбудить твоих лежебок, – сказал он, вставая.
– Оставь детей, – ответила Нуца, переливая молоко сквозь цедилку в котел, – пусть спят до завтрака.
Он снял с кухонной стены уздечку и вышел во двор.
– Куда это ты собрался? – крикнула жена ему вслед, голосом заранее осуждая его поездку.
– В правление, – ответил он, не останавливаясь.
– Что это ты там потерял? – крикнула она вслед его стройной, высокой фигуре, пересекающей двор. Он ей ничего не ответил.
С тех пор, как его любимая лошадь Кукла, во время войны мобилизованная для доставки боеприпасов на перевал, вдруг сама вернулась домой, до смерти замученная, со стертой спиной, а главное, он был в этом абсолютно уверен, со сломленным духом, с навсегда испорченными скаковыми качествами, он дал себе слово никогда не заводить лошадей. Ни один человек в мире не знал, как он пережил тогда порчу любимой лошади, и он дал себе слово больше никогда в жизни не заводить лошадей. Куклу он продал, чтобы вид ее не терзал душу.
И все-таки недавно его друг Бахут, который тоже был лошадником и кое о чем догадывался, предложил ему эту лошадь.
– Посмотри, – сказал Бахут, – не понравится – вернешь, а понравится – купишь…
После той последней лошади он боялся полюбить какую-нибудь лошадь. И он старался к этой лошади относиться как к обычной домашней скотине, и как будто это ему удавалось, но что-то во всем этом было не то. Лошадь была хорошая, и ему, прирожденному лошаднику, надо было породниться с ней, но память о той боли вызывала боязнь ее повторенья, и он удерживал себя. И это в глубине души его порождало ощущение вины перед лошадью, и он был уверен, что сама лошадь чувствует его несправедливое равнодушие к ней, его холодность. Разумеется, ни одному бы человеку в мире он не признался в этом. Он был прирожденный лошадник и до войны неоднократно брал призы на скачках, но с этим, он считал, навсегда покончено.
Он зашел на скотный двор, поймал лошадь, надел на нее уздечку и, приведя во двор, привязал к кухонной веранде.
– Говори людям, что Нури в городе растратил деньги и попал в беду, – сказал он жене, войдя в кухню, – говори людям, что нам нужно у кого-нибудь занять пятьдесят тысяч рублей.
Нури был младшим сыном Хабуга. Перед войной он, повздорив с мужем своей сестры и будучи необычайно вспыльчивым парнем, запустил в него топором, и тот умер от кровотечения. Дело удалось замять, потому что властям никто не жаловался, однако на семейном совете Нури был навсегда изгнан из семейного клана и Чегема.
Но после войны, когда старого Хабуга уже не стало, когда столько близких не вернулось домой и сам Нури был тяжело ранен, отношение к нему смягчилось. Он стал изредка приезжать в Чегем из города, где он жил, и только сестра, беззаветно любившая своего мужа, не прощала его, не виделась с ним и не разговаривала.
– Да ты что надумал! – услышав слова мужа, воскликнула Нуца и, обернувшись к нему, так и застыла с мамалыжной лопаточкой в руке.
– Так надо, – твердо сказал Кязым и, скрутив цигарку, нагнулся и ткнул ее в жар очага.
– Да во всем Чегеме не найдется таких денег! – воскликнула жена.
– Думаю, кое у кого и больше найдется, – сказал он, усмехнувшись.
– Да чтоб я отрыла кости своих покойников, если во всем Чегеме найдутся такие деньги! – воскликнула жена.
– Оставь в покое кости своих покойников, – сказал он, – и займись своей мамалыгой.
– Ты лучше скажи мне, что ты надумал? – опять тревожно спросила жена, и он в который раз подивился ее упорству. Восемнадцать лет она неизменно спрашивала у него, что он надумал, и за это время он ни разу не признался ей в том, что он надумал, и все равно она каждый раз, когда он что-нибудь затевал, пыталась вытянуть из него его помыслы. Но он никогда ей не открывался в своих помыслах и тем более сейчас не мог открыться, потому что она своим куцым бабьим умом могла все испортить.
– Делай, как я тебе сказал, – проговорил он твердо, – когда надо будет, узнаешь!
Она поняла, что ничего от него не добьется, и некоторое время молча мешала мамалыжную заварку своей лопаточкой.
– Смотри, в беду не попади, – вздохнула она через минуту и стала сыпать муку в мамалыжный котел.
– Авось, не попаду, – сказал он.
Нуца молчала, но по глухому, яростному стуку мамалыжной лопаточки о дно котла он понимал, что она сдерживает раздражение.
Дети встали, и старшая дочь, семнадцатилетняя Ризико, взяв кувшин, пошла на родник за водой.
– Опухли со сна, – сказал он, обращаясь к старшему сыну Ремзику и дочке Зиночке, потиравшей свое сонное, хорошенькое личико.
– Оставь детей! – бросила жена, с трудом проворачивая лопаточкой густой замес мамалыги.
– Пепе, конфет привези! – строго сказал ему малыш, перековыляв через порог кухонной двери. Увидев лошадь, привязанную к перилам кухонной веранды, он понял, что отец куда-то едет, и решил немедленно извлечь пользу из этого факта. Кязым молча глянул на малыша.
– Погонишь коз в глубину котловины Сабида и веди их все время вдоль ручья, – сказал он старшему сыну, севшему на кушетке, – там выпасы хорошие.
– Знаю без тебя, – огрызнулся сын.
– Как ты с отцом говоришь? – обернулась к сыну Нуца.
Кязым промолчал. Ремзику было пятнадцать лет, и он уже стыдился, что его заставляют пасти коз. Это было то странное и новое, что медленно, но неостановимо входило в Чегем. Почему-то все стыдились пастушить, чего никогда не стыдились их отцы и деды.
Позавтракав вместе с семьей, Кязым вынес остатки мамалыги и стал кормить собаку, молча дожидавшуюся своего часа у порога кухонной веранды. Небольшими ломтями он бросал ей мамалыгу, чтобы она не подавилась от жадности. Лоснясь на солнце черной шерстью, она, благодарно помахивая хвостом, клацая зубами, ловила добычу и почти мгновенно ее проглатывала.
Потом он вымыл руки и оседлал лошадь.
– Соли купи, раз уж ты едешь туда, – сказала жена и, вынеся мешочек, попыталась приторочить его к седлу. Но он взял у нее мешочек и сунул его в карман. Он знал, что в доме еще достаточно соли, но жена этой просьбой как бы привязывала его к семье, от которой, как ей казалось, он все норовит оторваться ради каких-то особых мужских или общечегемских дел.
Он отвязал лошадь, молча перекинул через седло свое легкое, сильное тело и зарысил через двор на верхнечегемскую дорогу.
Минут через сорок он въехал в сельсоветовский двор и, привязав лошадь у коновязи, поднялся в правление колхоза. Две счетоводки, одна – молодая девушка, а другая – женщина его возраста, склонившись к своим столам, щелкали счетами. Казалось, их печальные лица все еще излучали траур по арестованному бухгалтеру.
– У себя? – кивнул он на председательскую дверь.
– Да, – ответили обе, вставшие при его появлении. Лицо той, что была старше, тихо оживилось отсветом далекой нежности. Он рукой им показал, чтобы они садились, и прошел в кабинет председателя.
Эта женщина, его ровесница, всю жизнь любила Кязыма, о чем он, вероятно, никогда не догадывался. В юности она считала его настолько умнее и красивее себя, что никогда ни ему, ни кому другому не раскрывалась в своей любви. Она считала, что он достоин какой-то необыкновенной девушки, и у него как будто была какая из села Атары и между ними было слово – так говорили люди. Но та девушка вдруг вышла замуж за другого человека, а Кязым через много лет женился на своей теперешней жене. Что там случилось, она не знала. Прошли годы, она сама вышла замуж, народила детей, но чувство не прошло, прошла боль, и она продолжала издали следить за его жизнью и тревожиться за него, потому что знала, что у него больное сердце.