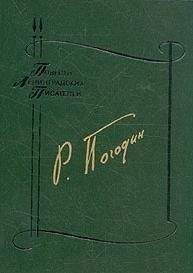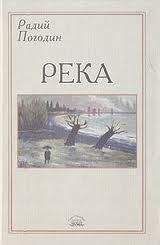Радий Погодин - Я догоню вас на небесах (сборник)
— Жаль, — сказал Шаляпин, ни к кому, собственно, не обращаясь. — У парня был неплохой номер.
Но музвзвод и вся культбригада, я это чувствовал, были на моей стороне. Более того, они даже гордостью какой-то преисполнились.
— Может, нам Зощенко наизусть читать — юмор, — предложил я Писателю Пе. — Или, знаешь, бывают такие скетчи.
— Давай научимся бросать ножи. Это нам как-то ближе.
Ситуацию разрядил все тот же майор Рубцов.
Вызвал он Писателя Пе и показал ему письмо, где на машинке было напечатано, что его, Писателя Пе, «студента второго курса Ленинградского юридического института, на факультете помнят и ждут».
— Поезжай, — сказал майор Рубцов. — Желаем тебе успехов в учебе и дальнейшей жизни.
— Как думаешь, откуда такое письмо? — спросил у меня Писатель Пе.
— Майор состряпал, — сказал я. Я тут же обнял Писателя Пе, руку ему потряс, воскликнул с радостным воодушевлением: — Поезжайте, товарищ Пе. Скатертью дорога. Ученье — свет, а неученых — тьма.
Писатель Пе умотал. Перед отъездом ему выдали благодарность, подписанную маршалом Жуковым, и мы проводили его — и музвзвод, и агитбригада. Он даже в разведроту сходил, но там, кроме нашего шофера Саши, уже почти никого знакомых не было.
Вскоре и меня вызвал майор Рубцов.
— У тебя сколько ранений? — спросил он.
— Два.
— А это? — он подал мне бумагу, где говорилось, что контузия, которую я перенес, должна категорически расцениваться как ранение, причем тяжелое.
— Оказывается, ты контуженый, — сказал он радостно.
— Так точно, — ответил я по уставу громко, не мог же я не доверять официальному документу медсанбата.
— Два ранения плюс обширная контузия. Выходит, мы должны тебя демобилизовать. Да ты не огорчайся. Меня вот тоже направляют в Москву, в Акадэмию. Жалко оставлять войско. Но и в Акадэмию надо, образование надо командирам.
Он так и говорил — «акадэмия». Даже в бане можно было бы определить в нем военного, более того — майора.
Я думаю, майор Рубцов стал генералом. Подчиненные его любили, дети и внуки любили, мы с Писателем Пе тоже. И все солдаты нашего полка — именно полком майор называл нашу бригаду — его любили.
Меня задерживали из-за шинели. На складе не было шинелей. Наконец нашли какую-то: пола кровью залита, задубела — не отстирать.
Разведчики подарили мне новый велосипед, чтобы я хоть с чем-то ехал домой, написали бумагу, что это подарок. В культбригаде со мной попрощались торжественно. Старая фрау пожелала мне покоя и счастья. Сказала, что Эльзе уехала жить в Берлин. Вместе с Шаляпиным мы сходили на бугор к Егору и Паше. Посидели там на теплой земле. Осень уже размешивала охру в своей колеровой банке.
Кто меня удивил — капельмейстер. Он подарил мне трубу. Нет, не свою, конечно, но тоже красивую.
— Она будет напоминать вам о ваших погибших товарищах, — сказал он. — Вы могли бы стать трубачом.
Почему он сказал «погибших», а не «музвзвод»? В звуке трубы есть что-то конечное, после чего возможны лишь райские голоса. Это я и тогда понимал, и теперь именно так понимаю. И никаких сурдинок терпеть не могу. Сурдинка в трубе — как свисток в устах Бога.
Отбыл я.
В Берлин нас привезли на «студебекере». Там стоял состав пассажирский. Какой-то сержант-армянин, обремененный чемоданами, узлом, солдатским мешком и картонным ящиком, предложил мне занять с ним на пару тамбур: «Шикарно! Отдельное купе, вах!»
Это было действительно шикарно. Ни вони, ни водки. Велосипед я поставил к двери — поперек тамбура. И мы завалились, постелив шинели.
Я опускаю мелочи, куда входит суматоха, радостное сердцебиение и беспокойство армянина. Он все время вскакивал, все обхватывал себя за плечи, как будто замерзал. Наверное, он был железнодорожник или очень хитроумный человек — у него был железнодорожный ключ. Он запер им все двери. Теперь рожи, прижимавшие носы к стеклам, нас не волновали.
Но на каждый хитрый ум есть ум еще хитрее. Как говорят, с винтом.
Мы проспали всю Германию. И в Польше тоже спали. Составы с демобилизованными по Польше пытались прогонять без остановок. Мы поедим тушенки — и спать. По нашему расчету выходило так: вот мы проснемся — и уже граница или где-то совсем рядом.
Был день. И небо было незамутненное синее, и в щели пробивался запах угольного дыма, запах серы, от которого становится кислой слюна.
У разведчика сон чуткий. Но в этот раз сон мой каким-то образом наложился на явь, и потому проснулся я не мгновенно… Но сначала нужно сказать о нашем расположении в тамбуре. Поперек у двери стоял велосипед. Он стоял плотно — едва вошел. У стены, где дверь в вагон, стояли чемоданы армянина. Прижавшись к ним, спал армянин. Звали его Армен Мунтян. Мне оставалось довольно много места. Сон я видел такой. Мы с Егором взбираемся по металлической пожарной лестнице на крышу дома, где-то у беспрерывно грохочущей железной дороги. За домом стоят немецкие самоходки «фердинанды». Мы идем их сжечь.
Но откуда этот шуршаще-скрипучий звук возле уха, словно кто-то потихоньку шаркает подметкой. И ветер в голову — ведь дверь закрыта на железнодорожный ключ.
И вот я вскакиваю. Мгновенно. Грудью к двери. Руками упираюсь в стены тамбура. Передо мной, за велосипедом, двое: парень-блондин лет двадцати пяти, мальчик лет пятнадцати. Дверь открыта. Мунтяновых вещей нет. Парень и мальчик смотрят на меня какую-то секунду. Но этой секунды достаточно. Я упираюсь в стены тамбура руками еще сильнее — ногой бью в раму велосипеда. Велосипед срывает их с подножки — парня и мальчишку — кто-то из них кричит. И тут я чувствую удар по руке. Вижу вскочившего Мунтяна. Он дик. Толкнув меня, он прыгает из тамбура не как принято, чтобы не разбиться, но отчаянно, грудью вперед, как в воду. Я тоже вываливаюсь, но успеваю ухватиться за поручень.
Поезд идет по дуге, по высокой насыпи. Насыпь очень высока, как щебенчатая дамба. Катятся по щебню вниз Мунтяновы чемоданы, белокурый парень и мальчик. Их переворачивает, протирает лицом по щебню, выворачивает шеи. И Мунтян! Его еще не крутит — он пашет щебень грудью, роет его подбородком. Вот ноги его задираются, спина ломается дугой — все круче, круче. И вот он отрывается от щебня, переворачивается и падает на насыпь уже мешком.
Мне холодно. Я залезаю в тамбур. Поезд все идет по дуге. И я все не отрываю глаз от этих трех тел — теперь они неподвижно лежат на сером щебне. Паровоз протяжно гудит, наверно, машинисты видят эту чудовищную акробатику, но остановиться здесь нельзя. Да и зачем? Я достаю из своего мешка футляр с трубой. Мунтянова мешка на полу нет. Он прихватил его с собой. Трубить-то я могу, недаром я так старательно осваивал тенор. И я трублю…
Потом я принимаюсь есть тушенку…
Сейчас иногда, во время еды, неважно где, дома ли, в гостях ли, опоясывает меня щебенчатый высокий откос. Я слышу крик паровоза и хриплый голос трубы. В такие минуты мне говорят:
— Наверно, вам нехорошо. Вы поперхнулись? Выпейте воды…
Когда у человека каждодневная забота перестает быть регулятором его живого времени, прошлое вдруг надвигается так выпукло, так изумительно, что начинает казаться, будто живешь ты в двух направлениях времени или смыкаются на тебе витки непостижимой спирали. От этого одышка и пот на лбу.
До Бреста остановки не было. В Бресте я сообщил о происшествии в комендатуру.
Армен Мунтян был последним погибшим на моих глазах солдатом. Подчеркиваю — последним на моих глазах.
Поскольку в моем повествовании это место самое подходящее по настроению, скажу, что нашего шофера Сашу застрелил в октябре немец-старик. Саша зашел к нему в сад и сорвал яблоко. Немец влепил ему хорошую мерку дроби в шею под ухо. Шаляпин демобилизовался через полтора года. И его мать, и его сестренка младшая вроде были ему и не рады. От соседей он узнал, что местный кегебист шантажировал его мать тем, что Шаляпин, мол, в плену был и стоит только ему, кегебисту, захотеть, как Шаляпин загремит в лагеря, невзирая на орден Славы, который он получил. Кегебист склонил мать Шаляпина к сожительству. Говорят, подбирался и к сестренке — студентке техникума. Шаляпин поехал в Ростов, где тот кегебист тогда пребывал на высокой должности, и застрелил его.
Дали Шаляпину десять лет. Но он так и не объявился более.
Писатель Пе говорит мне, что в моем повествовании уж больно много смертей. А если, мол, прибавить сюда солдат, погибших в сражениях, только из нашей войсковой части, — что же это получится? Много, говорю, получится. Но, говорю, твоего буйного воображения не хватит, чтобы погубить двадцать миллионов душ, тут, говорю, нужно иметь особый дар и особое предназначение. А если, говорю и подчеркиваю, прибавить к двадцати миллионам душ еще столько же…
— И не говори, — говорит. — Ох, — говорит, — лучше быть музыкантом. Музыка скорбит вообще.