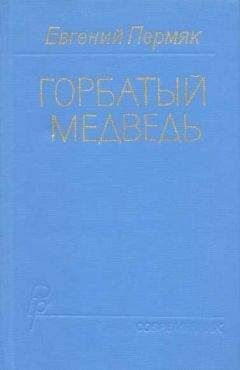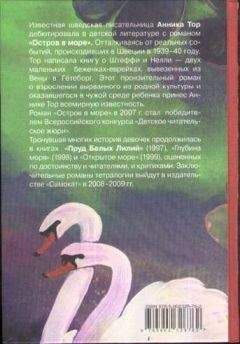Евгений Пермяк - Горбатый медведь. Книга 2
Вишневецкий молчал, опустив голову.
— Значит, не хочешь врать и выручать его? — спросил Фока Лукич. — Ну, а если не хочешь врать и выручать его, тогда говори правду. Он убил на опушке парня и снял с него полушубок и валенки?
Не долго раздумывал Вишневецкий. Улучив минуту, когда Мерцаев не смотрел на него, он кивнул головой.
— А ты не мотай головой, как козел, — вступил в разговор брат Шерстобитова, дядя Андрюши, — ты как человек. Да или нет, если хочешь снисхождения.
— Да, — громко сказал Вишневецкий.
— Не-е-ет!.. — истерически завопил Мерцаев. — Н-е-ет!..
— Значит, не хочешь признаться, убивец.
Мерцаев не выдержал, бросился к ногам Шерстобитова и стал просить помиловать его и простить. Фока Лукич поднял над головой убийцы сына лесорубный, с длинным топорищем, топор. А потом бросил его на снег. Такая казнь показалась малой и легкой. Озлобление и месть душили отца. И он стал искать возмездия страшнее.
— Жабеныш, что положено за смерть ни в чем не повинного человека ради мелкой корысти. Что?!
— Смерть! — не моргнув, ответил Вишневецкий.
— Юрий! — умоляюще не то проговорил, не то простонал Мерцаев.
Злоба Шерстобитова не утихала, а закипала с новой страшной силой. И он опять сквозь зубы заговорил с Вишневецким:
— Ежли ты такой праведный судья, так будь ему таким же праведным палачом.
В висках Вишневецкого стучало: «Выжить, любой ценой выжить». Он взял топор и пошел на обезумевшего Мерцаева.
Все отвернулись.
После того как Вишневецкий бросил окровавленный топор на снег, Шерстобитов сказал:
— Если ты так легко убиваешь своего однокорытника, значит, и ты, наверно, убил кого-то ради шубейки, что на тебе. И за это тебя тоже бы надо… Но ты живи и майся. Майся и бойся смерти за смерть… А теперь беги. Утекай, слизень…
Вишневецкий припустил по дороге в Дымовку, не чуя, как говорится, под собою ног. Дорогой в его наследственно-подлой голове созрел план: он расскажет о нападении четырех вооруженных, лица которых ему не удалось запомнить, и о том, как ему счастливо удалось бежать и как был уведен не вырвавшийся из их рук Игорь Мерцаев.
Ведь никто не поверит тому, что было на самом деле, если бы даже эти четыре мужика обвиняли Вишневецкого.
Не замешкались там у солеварни и Шерстобитовы.
— Возьми, сын, улику, — указал на топор Фока Лукич, — и ходу.
За солеварней их ждали розвальни и буланый конь.
И снова пошел снег — прятальщик следов и улик.
ВТОРАЯ ГЛАВА
Хорошо сдружились на Дальнем току дед, искавший внука, и внук, у которого не было дедушки. Выяснили спорные точки, расставили главные запятые и, больше не ссорясь, жили душа в душу. Старик радовался хорошему ученику, который с ходу перенимал, крепко запоминал и находил свое.
Дедушка Василий учил и тому, что не вычитаешь ни в одном учебнике, не услышишь ни на одном уроке, что знали только люди, живущие рядом с лесной нечистой силой. Следы — это не вопрос. Много ли их? Три десятка звериных да дюжина птичьих. Не велика азбука. Труднее по нюху, по ветру, по часам и солнышку, а ночью по звездам находить дорогу. Но тоже если учиться, запоминать, то и эту геометрию можно одолеть.
У каждого зверя своя хитрость, свое умение прятаться. С собакой успешнее была бы охота, а пришлось оставить дома верную лаечку Стрелку. Звонко лает охотница. Далеко убегает от избушки в поисках зверя. Не ровен час и наведет на след лиходея из вахтеровской своры. Скучно без нее, но спокойнее.
Василий Адрианович, как мог, укреплял хлипкое сердце жалостливого парня, отвердевал его душу охотой. Не добил ружьем — дорежь ножом. Жизнь это жизнь. А смерть это смерть. И на охоте надо быть как на охоте.
Неизведанные удачные выстрелы, хитро поставленные капканы, умело настороженные ловушки заставляли забывать, что не так-то уж далеко идет гражданская война. Раз только побывал здесь вестник из Дымовки, старший сын Шерстобитова Константин. Он рассказал, что было на старой солеварне и каков змееныш Вишневецкий. Он же оставил на Дальнем току карабины с патронами. А вдруг пригодятся для обороны. Тем же далеким путем в обход, подгадав к снегопаду, ушел Константин, прихватив с собой боровой зимней птицы. С едой в Дымовке стало куда хуже.
С тех пор не приходил никто и неоткуда было знать, что на берега Камы пришла откормленная, обмундированная, хорошо вооруженная колчаковская армия.
Колчаковские батальоны, встретившиеся с мильвенцами, одним лишь своим видом дали понять, что больше нет никакой мильвенской гвардии, да еще революционной, никаких красных повязок на рукавах и красных знамен частей.
Оказывается, все это было только туман, только притворная видимость.
На другой же день началось переформирование. Мильвенские отряды стали даже не полком, а лишь частью полка, не получившего еще номера. А ее главнокомандующий стал обыкновенным командиром стрелкового батальона штабс-капитаном Вахтеровым. И все.
Через несколько дней подвезли обмундирование. Главным образом английское. В продаже появились белые баранки и японские сигареты «Золотой шлем». Командиры надели офицерские погоны и стали господами. Господами подпоручиками, поручиками, штабс-капитанами и выше.
Герасим Петрович Непрелов тоже надел погоны. На одну звезду больше, чем на тех, которые он срезал при бегстве из Петрограда. Непрелова никто не производил в очередной чин. Он сам произвел себя. Кто разберется, да и кому нужно выяснять подробности.
В полку без номера, сформированном из мильвенцев, начался ропот. И вскоре полк был выстроен. Перед строем командиры батальонов объявили, кто такой верховный правитель адмирал Колчак, и что означает солдатский погон, и как смертельно опасны политические разговоры. Затем был обнародован приказ о расстреле бунтовщиков перед строем.
Тут же были названы фамилии. Послышалась команда выйти названным из строя. И наконец, печатая шаг, прибыла особая рота, и послышалась протяжная громкая команда:
— По красным бандитам, немецким шпионам, в назидание не раскаявшимся в своих заблуждениях… рота-а-а-а… Пли!
На снег повалились мильвенские рабочие, крестьяне из примильвенских деревень. Среди них не было большевиков и, кажется, даже не было осознавших предательство Вахтерова. Это были меньшевиствующие и эсерствующие обманутые люди, которым смерть помешала понять, как жестоко посмеялась над ними кучка отъявленных авантюристов.
После расстрела мильвенцев Вахтеров получил подброшенное ему письмо:
«Считай себя мертвым, гад и предатель».
Вскоре Вахтерова не стало в полку. Его откомандировали в распоряжение верховного командования. Все понимали, что ему теперь страшно было появиться перед строем. И еще страшнее оказаться в бою. Узнавай потом, чья пуля размозжила его затылок.
О Мильва, Мильва, как страшны заблуждения и как тяжка расплата за них твоих сынов.
IIПосле рождества Маврикий заболел неизвестно чем. Ни жара, ни озноба, а бред и слабость. Ночью за ним приходили и Манефа, и Юрка Вишневецкий, и сам Вахтеров. Его уже несколько раз расстреливал Митька Суровцев из Союза молодежи за то, что видел у него на руке повязку с надписью ОВС. Он жаловался:
— И там и тут я, дедушка Василий, преступник… А что я сделал? Разве я не хотел добра всем?
Тут Василий Адрианович, не споривший все это время, вставил несколько словечек:
— Кто, Мавруша, для всех слуга, тот всем враг… Ну да потом об этом, выздоравливай скорей.
Кукуев отпаивал больного сильными травами, и особенно настоем корня валерьяны. Старик нутром чувствовал, что самое лучшее лекарство для хворого и ничем не болеющего — это сон и покой. Поэтому по своему разумению и давал он успокаивающее сонное питье.
Здоровое дедовское наследство тоже помогло справиться с болезнью, которая неизвестно как называлась. Выздоравливающий стал выходить греться на солнышке, которое давно поворотило на лето. И здесь случались теплые дни. Зайцы отыграли весенние игры. Оживились зимующие здесь птицы. Как-никак скоро начнется перекочевка на север, в злачные кормом места.
А потом нежданно-негаданно прикатила на лыжах бабушка Дарья. В избушке совсем повеселело.
Белые, которые теперь назывались белыми, давно уже оставили Дымовку. Они, тесня красных, обещали взять и Казань и Вятку, а потом широким фронтом двинуться на Москву.
Дымовка снова стала глубинной лесной деревней, далекой от фронтов и большой жизни. При колчаковцах избрали старосту. Он и был властью. А какой, не знал и сам. Этих властей перебывало столько, что лучше не выяснять, кто за что. Быть бы живу.
Бояться старосты было нечего, потому что он сам боялся всех, как и единственный богатей Егор Тыловаев. Он и при белых не стукнул, не брякнул. Понимал, что чем длиннее у человека язык, тем короче его век.