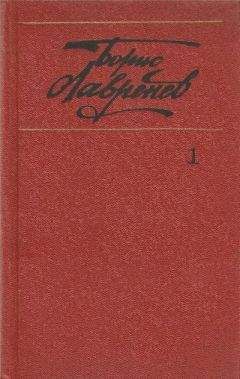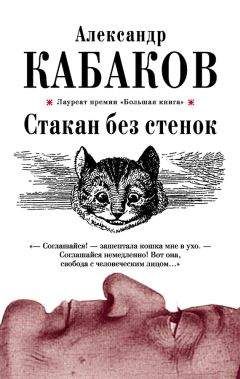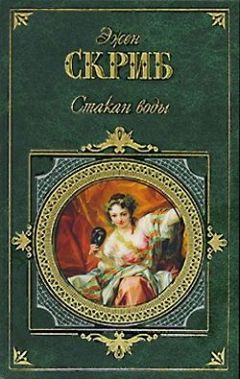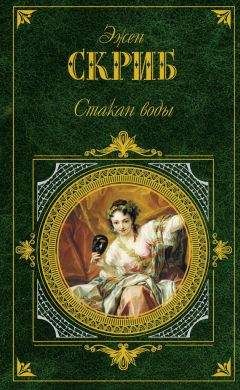Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы
Шамурин замолчал и прижал ладонью лоб, как бы пытаясь вспомнить образ, о котором он говорил. Помолчав, продолжал:
— Я уже говорил вам, что в то время я жил покупкой и продажей антиквариата. Сам я не мог справляться с беготней по аукционам и квартирам, где продавались эти осколки. Я состарился, меня мучил ревматизм. И у меня появился компаньон. Его звали Крымовым. Николай Данилович Крымов. Молодой, лет двадцать восемь. Бывший гвардейский корнет, из хорошего старого дворянства. Смуглый, красивый, веселый, широкоплечий. Он тоже прекрасно знал старину, умел разбираться в грудах выносимого на аукционы хлама, умел находить в каких-то трущобах подлинные уники и приобретать их за гроши. По нашим делам он часто бывал у меня. Но мне никогда не приходило в голову, что он красив, что он мужчина, что у меня взрослая и прекрасная дочь. Это было возмездие судьбы. Звездоносный родитель моей Татьяны тоже никогда не помышлял о том, что его дочь может полюбить наемного маляра, которому заказан портрет ее ослепительной молодости. Я проглядел возраст моего ребенка, я не мог угадать, почему она тосковала в тот день у окна, смотря на канал. Ей хотелось любить, милостивый государь, а я, старый дурак, ничего не понимал. Как они полюбили — я не знаю. Но однажды, когда я сидел за работой, я увидел, что скорбное выражение на лице Татьяны сменилось какой-то ребяческой радостью, и ее щеки вспыхнули пожаром. Она быстро повернулась ко мне и сказала: «Папа, я устала немного. Я пройдусь». И, не выслушав моего ответа, она бросилась из комнаты, стремглав, с той же сверкающей и наполненной улыбкой. Несколько удивленный, я собрал в коробку угли, которыми работал, и подошел к окну без всякой другой цели, как опустить приподнятую занавеску. И вдруг я заметил на другой стороне канала у мостика знакомую фигуру в сером пальто. Я не мог ошибиться — это стоял Крымов. И в то же мгновение увидел, как через мостик легкой походкой, стремительная, как чайка над водой, бежала на ту сторону канала Таня. Я застыл у окна, потрясенный неожиданной и мучительной догадкой. Я весь трепетал. Я в этот час терял моего ребенка, которому я отдал всю свою жизнь. Таня добежала до Крымова. Он протянул навстречу ей руки, и она схватила их. Слегка откинувшись назад, как будто желая лучше видеть, она смотрела ему в глаза, и я видел из окна, как изумительно прекрасно и светло она засмеялась навстречу своей любви. Крымов взял ее под руку, и они, тесно прижавшись друг к другу, пошли вдоль канала и скрылись из глаз. Я почувствовал, как по всему моему телу выступил липкий, обессиливающий пот, и на несколько минут потерял сознание. Придя в себя, я сел за книгу и стал ждать возвращения Тани. Она вернулась часа через полтора. Я исподлобья смотрел и ждал, когда она войдет из передней, раздевшись. Я увидел ее спокойной, принявшей свой обычный вид. Ничего нельзя было прочесть на ее безоблачном лбу. Я спросил ее, где она была, спросил тоже спокойно, невзначай, как спрашивал каждый день до этого, но сам чувствовал, что голос у меня дрожит от обиды и ревности. Но она не заметила перемены в моем голосе, она была полна собой, своим счастьем и просто, без тени смущения ответила, что гуляла. «Одна?» Она засмеялась. «Ну, с кем же мне гулять, папа? У меня и знакомых нет. Я такая стала домоседка». Я задрожал, я задохнулся: Таня, моя дочь, солгала мне. Я не мог больше оставаться дома. Я тоже под каким-то предлогом ушел из дому и до ночи скитался по улицам, думая о законе возмездия. Я решил ничего не говорить ей. Если она не хотела сказать мне правду, я не чувствовал за собой права исторгать у нее правду насилием. Я с мукой примирился с судьбой отца и только дал себе слово беречь ее от беды. Я ничего не мог иметь против ее любви к Крымову. Он был честный, воспитанный, энергичный, не ломавшийся под ударами судьбы. Он мог быть хорошим мужем, и в конце концов я уверил себя в том, что все идет нормально, что девушке в двадцать четыре года пора полюбить, что она имеет право на свое счастье, и как мне ни страшно было потерять ее, но я же должен был помнить, что законы природы имеют свою логику. Все могло бы кончиться хорошо, если бы не несчастная мечта тщеславия, не суетная мысль, что моя жизнь художника должна быть закончена созданием какой-то вечной ценности. Я не знаю, что произошло между ними в тот вечер. Вероятно, впервые они объяснились до конца, впервые сказали ужасное слово «люблю». Но с этого дня Таня стала неузнаваема. Она наполнилась непреходящей, неугасимой радостью. Когда в течение нескольких дней после этого вечера я ставил ее в избранной позе к окну и начинал работать, меня брало дикое и злобное отчаяние. Ничего похожего на созданный мною и виденный образ в ней не было. Вы понимаете?
— Да, — тихо ответил Кудрин, завороженный этим рассказом, — понимаю. Исчезло выражение тоски и обреченности, которого вы так искали.
— Да… да… да, — перебил Шамурин, наполняя стопку, — да. Исчезло. Исчезло навсегда, и его нельзя было воскресить никакими силами. Я мучился, я ломал угли, я просил ее принять грустное выражение, но все было бесполезно. Она светилась насквозь тихой удовлетворенностью, и нарочное выражение печали, которым она хотела угодить мне, — ведь она же по-настоящему меня любила, своего старого отца, — мгновенно сбегало, как сбегают шарики воды с раскаленной железной плиты. Меня охватило безумие неудачи. Забывший обо всем, кроме своей суетной цели, я терзался мыслью, как поправить дело, как заставить мою натуру, моего ребенка, страдать и тосковать, как она тосковала раньше. И дьявол вдохнул в меня проклятую мысль. Не смейтесь, милостивый государь: вы можете не верить, но не имеете права улыбаться! — закричал он на улыбнувшегося невольно Кудрина. — Что вы понимаете в этом?.. Да, дьявол внушил мне эту мысль. Я с упорством маньяка стал думать, что, если бы с Крымовым случилось какое-нибудь несчастье, если бы он попал в какое-нибудь безвыходное положение, хотя бы временно, или уехал бы куда-нибудь, я спас бы свою работу, я смог бы достойно закончить рисунки, чтобы начать резать на дереве. Я придумывал тысячи планов, один фантастичнее другого, как заставить мое дитя, мою плоть страдать и тосковать, как нанести удар ее любви и счастью. И, отбросив тысячи планов, я, безумец, остановился на подлом, неслыханном, которому нет названия. Но я был безумен тогда, и мне казалось, что все позволено для искусства. Вы понимаете, милостивый государь, что в таком деле, как антиквариат, в наши дни, для того чтобы добыть любителю нужную ему вещь, есть ходы, которые идут вразрез с требованиями закона. Особенно когда дело касается дворцовых и музейных фондов. И вот я поручил Крымову одно такое дело, заранее создав обстановку, при которой его попытка сталкивалась с надзором властей. Дело было пустячное. Я несколько знаю законы, и все должно было окончиться двумя-тремя неделями подследственного ареста. Я, с воспаленным мозгом, толкнул человека, которого любила моя дочь, на это дело. Он пошел и был арестован. В этот день Таня, как всегда, вышла погулять, но вернулась скорее обыкновенного, и я, наблюдавший за ней, как зверь из засады наблюдает за своей жертвой, с неимоверным, почти сладострастным удовлетворением заметил в ее лице растерянность, недоумение и тревогу. Но она ни одним словом не выдала себя. Утром она ушла из дому. Я знал, что она идет на квартиру Крымова, но не подал вида. Она вернулась в полдень, потрясенная, уже не в силах скрывать своих переживаний, и первое слово ее было: «Папа! Коля арестован». Она забыла даже о том, что до этого дня всегда называла при мне Крымова — Николай Данилович. Она говорила, как взрослая женщина, любящая и знающая свое право на любовь. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. На этот вопрос она не ответила правдой. «Я встретила нашу общую знакомую, и она сказала мне». Она замолчала и спустя несколько минут добавила: «Папа, ты должен узнать и похлопотать за него. Ведь он твой компаньон». Она не говорила, что Крымов дорог ей и я должен хлопотать за него, как за ее любимого, она пыталась заставить меня действовать на основе моих деловых интересов. Прозрачное детское сердце женщины, милостивый государь. Я пообещал ей разузнать о причине ареста, хотя и прекрасно знал ее. Я ушел и, вернувшись, рассказал ей со всеми подробностями причину ареста Крымова и сообщил, что в угрозыске мне сказали, что, вероятно, это недоразумение и что недели через две, когда разберутся, его освободят без всяких последствий. Она вынесла мой рассказ, не изменившись в лице, не дрогнув ни одним мускулом. Но ночью, проснувшись, я услыхал из ее комнаты глухой плач и — нет меры моему преступлению — обрадовался. На следующий день все валилось из рук у Тани и она с трудом сдерживалась. Когда я предложил ей поработать, она с радостью согласилась. Это давало ей возможность отвлечься от своих мыслей. И когда она стала у окна, я вздрогнул от безумной и дьявольской радости. Она смотрела — я знал куда: на канал, на мостик, за которым всегда стоял Крымов, — смотрела с мучительным волнением, тоской и безнадежностью. Я работал как бешеный, все во мне кипело и радовалось, я даже не заметил сразу, как она застонала, пошатнулась и опустилась на пол в обмороке. Я поднял ее, задыхаясь от боли и сожаления и от радости одновременно. Я привел ее в чувство, я сидел у ее постели, баюкал ее, как в детстве, пел ей колыбельную песенку, и что-то во мне неистово кричало: «Она твоя, твоя! Ты победил». И каждый день я работал, работал с упоением и жадностью, и с каждым днем все бледнее делалась она и все тоскливее и обреченнее, служа моему замыслу, становилось ее лицо. Прошли три недели. Но моему расчету, Крымов должен был уже выйти на свободу, но его не было. Моя работа подходила к концу. Таня таяла на моих глазах. Наконец я, сам встревоженный, пошел в угрозыск. Знакомый агент ошеломил меня известием, что арестованный Крымов передан в распоряжение ГПУ. Земля завертелась подо мной, я ничего не понимал. Я вышел из угрозыска раздавленный. Я не мог понять, почему Крымова могли передать в ГПУ. Дело было настолько незначительное и настолько не касавшееся политики, что это было загадочно. Я вернулся домой разбитый и в этот день не работал. Не работал и в следующий. Таня пришла ко мне и спросила, буду ли я продолжать работу. Я отговорился нездоровьем. Она побледнела и, вся осунувшись, сказала: «Жаль. Мне спокойней, когда ты работаешь. Я отвлекаюсь от ненужных мыслей». Я чуть не разрыдался. Наутро я отправился к одному знакомому еще по старым временам большевику, имевшему отношение к судебным учреждениям, и просил разузнать о Крымове. Он назначил мне встречу через два дня, и, когда я пришел к нему, он без предупреждения, коротко и сухо сказал мне: «Ваше счастье, что ваш компаньон не запутал вас. Он расстрелян». Я взял себя в руки, насколько мог, хотя весь мир потускнел для меня в эту страшную секунду, и просил его рассказать, в чем дело. Ошеломленный, я узнал, что Крымов был не Крымов, а князь Щенятев, что он скрывался под чужой фамилией после того, как играл руководящую роль в большом восстании в Центральной России, и был случайно опознан в угрозыске агентом, бывшим во время этого восстания красногвардейцем в городском гарнизоне. Я ни о чем больше не расспрашивал моего знакомого. Я пришел домой, и моей первой мыслью было — сделать петлю и повеситься на крюке от люстры, благо Тани не было дома. Но едва я снял веревку со старой корзины и связал петлю, Таня вернулась. Она поняла по моему виду, что случилось что-то непоправимое, схватила меня за руки и, смотря в глаза, властно приказала: «Говори правду». Я не мог солгать. Я сказал. Я ждал, что она закричит, упадет в припадке. Но она только пошатнулась, закусила губы и тихо сказала: «Я это знала». После этого она ушла в свою комнату и заперлась. Я стучал, умолял, просил, требовал открыть дверь. Она ответила тихо, но так, что я похолодел от пустоты и мучительности этого голоса: «Папа, оставь меня. Я даю тебе слово, что ничего с собой не сделаю, но мне нужен покой». Я отошел от двери, как побитая собака, и несколько часов просидел в углу без мыслей, недвижимо, с ужасом и надеждой прислушиваясь к каждому шороху из ее комнаты. Перед вечером она вышла, спокойная, ясная, с чуть припухшими глазами, прошлась по мастерской и спросила меня совсем спокойно, но чрезмерно звонким и холодным голосом: «Папа, ты будешь сегодня работать?» Я не мог, я не хотел, я не имел больше права работать. В каждом штрихе угля была моя собственная казнь. Но я согласился потому, что видел, что для нее это необходимо. Уголь скрипел по бумаге, как нож гильотины по позвонкам казнимого, упавший карандаш потряс меня своим стуком, как ружейный залп. Руки у меня тряслись, но я делал вид, что работаю. Вечером я говорил с Таней. Я пытался обелить себя и успокоить ее. Я сказал, что давно подозревал о ее любви к Крымову, что остерегался вмешиваться, что случившееся ужасно, но вместе с тем лучше, что Таня не связала еще окончательно свою судьбу с человеком, который скрывал свое прошлое, — и мои слова хлестали меня же, как раскаленные шомпола. Она слушала молча, неподвижная, тихая, закаменевшая. Так прошло два дня. На третий она встала на обычное место к окну, и, увидев в ее фигуре, во всем облике знакомое, дошедшее до предела пленительное выражение обреченной тоски, я забылся в припадке работы. Никогда в ней не было такой зрелой ясности и красоты, как в этот вечер. Когда я положил угли, она подошла и поцеловала меня в лоб. Я готов был упасть на колени и сознаться ей во всем, но она быстро ушла к себе в комнату, а оттуда вышла на улицу. Я слыхал, как хлопнула входная дверь и инстинктивно подошел к окну, как тогда. И тотчас же я увидел ее легкую фигурку в синем жакетике и фетровой шляпке. Но она не летела с легкостью птицы, а медленно шла, покачиваясь, словно несла на плечах непосильную ношу. Я смотрел на нее, и слезы текли по моим щекам. Она дошла до решетки канала, остановилась и стояла так, склонив голову, минут десять. Потом повернулась к окнам нашей квартиры, прижала руки к груди, быстро перекрестилась и, одним прыжком вскочив на решетку, рухнула в воду. Когда я, сломя голову, летя через ступеньки, добежал до канала, по маслу гнилой воды еще дрожали круги и сбегались кричащие люди. Ее не нашли, видно, тело сразу ушло под затонувшую баржу. Вытащили ее через несколько месяцев, когда от нее ничего не осталось, кроме груды разложившегося мяса…