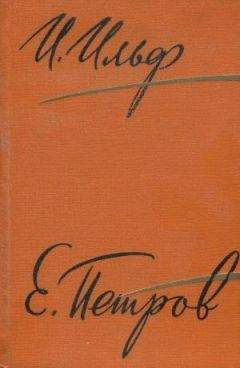Евгений Петров - Золотой Теленок (полная версия)
Уныние, охватившее при этом известии «Воронью слободку», вскоре сменилось спокойной уверенностью. Ледоколы продвигались медленно, с трудом разбивая ледяные поля.
– Отобрать комнату и все! – говорил Никита Пряхин. – Ему хорошо там на льду сидеть, а тут, например, Дуня все права имеет. Тем более по закону жилец не имеет права больше двух месяцев отсутствовать.
– Как вам не стыдно, гражданин Пряхин! – возражала Варвара, в то время еще Лоханкина, размахивая «Известиями». – Ведь это герой! Ведь он сейчас на 84 параллели…
– Что еще за параллель такая, – смутно отзывался Митрич, – может, никакой такой параллели и вовсе нету. Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались.
Митрич говорил сущую правду. В гимназиях он не обучался. Он окончил Пажеский корпус.
– Да вы поймите! – кипятилась Варвара, поднося к носу камергера газетный лист. – Вот статья. Видите? «Среди торосов и айсбергов».
– Айсберги! – говорил Митрич насмешливо. – Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. Верно Пряхин говорит. Отобрать – и все. Тем более что вот и Люция Францевна подтверждает насчет закона.
– А вещи на лестницу выкинуть, к чертям собачьим! – грудным голосом воскликнул бывший князь, а ныне трудящийся Востока, гражданин Гигиенишвили.
Варвару быстро заклевали, и она побежала жаловаться мужу.
– А может, так надо, – ответил муж, поднимая фараонскую бородку, – может, устами простого мужика Митрича говорит великая сермяжная правда. Вдумайся только в роль русской интеллигенции, в ее значение…
В тот великий день, когда ледоколы достигли наконец палатки Севрюгова, гражданин Гигиенишвили взломал замок на севрюговской двери и выбросил в коридор все имущество героя, в том числе висевший на стене красный пропеллер. В комнату вселилась Дуня, немедленно впустившая к себе за плату шестерых коечников. На завоеванной площади всю ночь длился пир. Никита Пряхин играл на гармонии, и камергер Митрич плясал русскую с пьяной тетей Пашей.
Будь у Севрюгова слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими замечательными полетами над Арктикой, не увидел бы он никогда своей комнаты, засосала бы его центростремительная сила сутяжничества, и до самой своей смерти называл бы он себя не «отважным Севрюговым», не «ледовым героем», а «потерпевшей стороной». Но на этот раз «Воронью слободку» основательно прищемили. Комнату вернули (Севрюгов вскоре переехал в новый дом), а бравый Гигиенишвили за самоуправство просидел в тюрьме четыре месяца и вернулся оттуда злой как черт.
Именно он сделал осиротевшему Лоханкину первое представление о необходимости регулярно тушить за собой свет, покидая уборную. При этом глаза у него были решительно дьявольские. Рассеянный Лоханкин не оценил важности демарша, предпринятого гражданином Гигиенишвили, и таким образом проморгал начало конфликта, который привел вскоре к ужасающему, небывалому даже в жилищной практике, событию.
Вот как обернулось это дело. Васисуалий Андреевич по-прежнему забывал тушить свет в помещении общего пользования. Да и мог ли он помнить о таких мелочах быта, когда ушла жена, когда остался он без копейки, когда не было еще точно уяснено все многообразное значение русской интеллигенции. Мог ли он думать, что жалкий бронзовый светишко восьмисвечовой лампы вызовет в соседях такое большое чувство. Сперва его предупреждали по нескольку раз в день. Потом прислали письмо, составленное Митричем и подписанное всеми жильцами. И, наконец, перестали предупреждать и уже не слали писем. Лоханкин еще не постигал значительности происходящего, но уже смутно почудилось ему, что некое кольцо готово сомкнуться.
Во вторник вечером прибежала тетипашина девчонка и одним духом отрапортовала:
– Они последний раз говорят, чтоб тушили.
Но как-то так случилось, что Васисуалий Андреевич снова забылся, и лампочка продолжала преступно светить сквозь паутину и грязь. Квартира вздохнула. Через минуту в дверях лоханкинской комнаты показался гражданин Гигиенишвили. Он был в голубых полотняных сапогах и в плоской шапке из коричневого барашка.
– Идем, – сказал он, маня Васисуалия пальцем.
Он крепко взял его за руку и повел по темному коридору, где Васисуалий Андреевич почему-то затосковал и стал даже легонько брыкаться, и ударом по спине вытолкнул его на середину кухни. Уцепившись за бельевые веревки, Лоханкин удержал равновесие и испуганно оглянулся. Здесь собралась вся квартира. В молчании стояла здесь Люция Францевна Пферд. Фиолетовые химические морщины лежали на властном лице ответственной съемщицы. Рядом с нею, пригорюнившись, сидела на плите пьяненькая тетя Паша. Усмехаясь, смотрел на оробевшего Лоханкина босой Никита Пряхин. С антресолей свешивалась голова ничьей бабушки. Дуня делала знаки Митричу. Бывший камергер двора его императорского величества улыбался, пряча что-то за спиной.
– Что? Общее собрание будет? – спросил Васисуалий Андреевич тоненьким голосом.
– Будет, будет, – сказал Никита Пряхин, приближаясь к Лоханкину. – Все тебе будет. Кофе тебе будет, какава. Ложись! – закричал он вдруг, дохнув на Васисуалия не то водкой, не то скипидаром.
– В каком смысле ложись? – спросил Васисуалий Андреевич, начиная дрожать.
– А что с ним говорить, с нехорошим человеком, – сказал гражданин Гигиенишвили.
И, присев на корточки, принялся шарить по талии Лоханкина, отстегивая подтяжки.
– На помощь! – шепотом сказал Васисуалий, устремляя безумный взгляд на Люцию Францевну.
– Свет надо было тушить, – сурово ответила гражданка Пферд.
– Мы не буржуи электрическую энергию зря жечь, – добавил камергер Митрич, окуная что-то в ведро с водой.
– Я не виноват, – запищал Лоханкин, вырываясь из рук бывшего князя, а ныне трудящегося Востока.
– Все не виноваты, – бормотал Никита Пряхин, придерживая трепещущего жильца.
– Я же ничего такого не сделал.
– Все ничего такого не сделали.
– У меня душевная депрессия.
– У всех душевная.
– Вы не смеете меня трогать. Я малокровный.
– Все, все малокровные.
– От меня жена ушла! – надрывался Васисуалий.
– У всех жена ушла, – отвечал Никита Пряхин.
– Давай, давай, Никитушко, – хлопотливо молвил камергер Митрич, вынося к свету мокрые, блестящие розги, – за разговорами до свету не справимся.
Васисуалия Андреевича положили животом на пол. Ноги его молочно засветились. Гражданин Гигиенишвили размахнулся изо всей силы, и розга тонко пискнула в воздухе.
– Мамочка! – завизжал Васисуалий.
– У всех мамочка! – наставительно сказал Никита, прижимая Лоханкина коленом.
И тут Васисуалий вдруг замолчал.
«А может, так надо, – подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты, – может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва».
И покуда его пороли, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покрикивала с антресолей: «Так его, болезного, так его, родименького», – Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду.
Последним взял розги Митрич.
– Дай-кось, я попробую, – сказал он, занося руку. – Надаю ему лозанов по филейным частям.
Но Лоханкину не пришлось отведать камергерской лозы. В дверь черного хода постучали. Дуня бросилась открывать. (Парадный ход «Вороньей слободки» был давно заколочен по той причине, что жильцы никак не могли решить, кто первый должен мыть лестницу. По этой же причине была наглухо заперта и ванная комната.)
– Васисуалий Андреевич, вас незнакомый мужчина спрашивает, – сказала Дуня как ни в чем не бывало.
И все действительно увидели стоявшего в дверях незнакомого мужчину в белых джентльменских брюках. Васисуалий Андреевич живо вскочил, поправил свой туалет и с ненужной улыбкой обратил лицо к вошедшему Бендеру.
– Я вам не помешал? – учтиво спросил великий комбинатор, щурясь.
– Да, да, – пролепетал Лоханкин, шаркая ножками, – видите ли, тут я был, как бы вам сказать, немножко занят... Но... кажется… я уже освободился?..
И он искательно посмотрел по сторонам. Но в кухне уже не было никого, кроме тети Паши, заснувшей на плите во время экзекуции. На дощатом полу валялись отдельные прутики и белая полотняная пуговица с двумя дырочками.