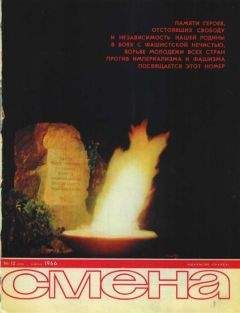Борис Горбатов - Мое поколение
Зачеты подходили к концу. У Юльки они проходили благополучно. Даже математику она сдала хорошо.
Карпенко, учитель математики, заменивший Хрума, сказал ей с удивлением:
— Ну, милая барышня, я от вас не ожидал! Ведь вы — всё прения, да выступления, да повестка дня! Где же тут до уравнений с двумя неизвестными! А вы вот какая! Вы математичкой будете, будьте благонадежны, — добавил он. — Это я вам говорю.
— Нет, инженером, — пролепетала смутившаяся Юлька. — Правда. Инженером-электриком.
Счастливая, она вышла из класса и столкнулась с Шульгой. Она вскрикнула, первая мысль была: бежать. Но Шульга уже взял ее за руку.
— Здравствуй! — сказал Шульга. — Ну, как жизнь молодая?
— А Тарас где? — невольно прошептала Юлька и оглянулась.
Тарас был ее последней надеждой. Теперь она хотела, чтоб обязательно был Тарас.
— Тарас уехал, — ответил Шульга улыбаясь. — Зачем тебе Тарас?
Они вышли на улицу.
Шульга не сделал даже попытки взять Юльку под руку. Он вообще был какой-то другой сегодня, мягкий, спокойный, улыбающийся.
Юлька недоверчиво смотрела на него.
— Ну, как зачеты? — спросил вдруг Шульга.
— Ничего… — уклончиво ответила она. Ее голос дрожал, она заметила это и рассердилась на себя.
Шульга стал рассказывать о том, как он «учился».
— Никаких зачетов не знали, а чуть что — взял тебя хозяин за шиворот, ткнул носом в наборную кассу, хрястнул по зубам…
Потом он рассказывал о своем детстве, о том, как сначала отец гонял за водкой, потом дьячок, потом старший наборщик, — дорогу в казенную лавку Шульга знал лучше, чем дорогу в школу. В его голосе появилась какая-то задушевность и теплота. Юлька удивилась: тот ли это Шульга? Ей хотелось верить: не тот. Другой. Хороший. Они шли рядом, дружно болтая. Юлька смеялась звонко, словно удивленно. И Шульга гулко вторил ей.
Какая хорошая погода стояла на дворе, какой славный и ласковый ветер! Словно дымились улицы, словно пар, волнующийся и теплый, шел от них.
Они остановились около калитки. Деревянные мостки тротуара вздрагивали под ногой. Откуда-то доносилось хриплое и пьяное пение.
Шульга положил на Юлькино плечо руки и вдруг притянул девочку к себе.
— Не надо! — прошептала она. — Шульга, не надо!..
А он еще крепче притянул ее, и она почувствовала себя маленькой и беспомощной возле этого большого и грубого тела.
— Не надо, Шульга! — просила она, но он не слушал и, закинув ее голову назад, начал целовать щеки, губы, шею.
— Пу-сти-те! — кричала Юлька. — Я не хочу!..
— Ну, брось, — прохрипел он тогда сердито, — брось!
Юлька заплакала. Она плакала тихо и горько — так плачут только дети.
Шульга растерялся.
— Ну, чего ты? Чего? — пробормотал он. — Плакса! Я же не съем тебя. Я же понимаю, что ты еще ребенок… Ну, что ты? Я только поцеловал…
Он выпустил девочку из своих объятий; растрепанная и жалкая, она стояла перед ним, опустив руки, и плакала.
— Тьфу! Ерунда какая! — дернул плечами Шульга. — Ну и плакса ты! Плакса — и все. Кисельная барышня. Тьфу!
Он сплюнул и, круто повернувшись, убежал.
Не так себе представляла свой первый поцелуй Юлька. Вот ее впервые поцеловал парень. Она думала: все произойдет иначе. Как — не знала, но иначе, лучше.
«Как это гадко случилось! — думала она под одеялом. — Схватил и чуть ли не за горло взял. Разве можно так? Ведь еще она не знает совсем Шульги. А поцелуй — это ведь накрепко, надолго, может быть, на всю жизнь».
Нет, нет, совсем не соловьи ей нужны. Пусть это будет… ну, в клубе. Даже так лучше: в клубе. Вот остались они случайно в читальне, и никого, кроме них, нет. Знают давно друг друга, говорили о разных вещах, у них общие взгляды, вкусы, характеры. И вдруг он просто посмотрел на нее, а она на него, — и вот просто, мужественно, смело и, главное, дружески он наклонился к ней и целует. И она его. А дальше что? Дальше — ясно. Раз поцелуй — значит, потом жить вместе: у него или у нее. Вместе работают, вместе учатся — и это накрепко, надолго, может быть, на всю жизнь.
Вот так она представляла себе свой первый поцелуй, если уж он случится. «Но он не случится», — думала она еще вчера. Не случится, потому что Юлька не выйдет замуж. Ей нельзя выходить замуж, — она должна ведь стать инженером-электриком.
А Шульга шел домой и тоже морщился.
«Ну зачем это я? Ну зачем? Хорошая в основном девочка. Верно, хорошая. Зачем я?»
Но уже ничего нельзя было исправить.
И когда Рябинин, встретив на другой день Юльку, удивленно спросил ее: «Ты что, больна?» — она только подобралась вся и пробормотала:
— Нет… Ничего…
Ей показалось, что и Рябинин смотрит на нее, как Шульга.
А в школе уже надвигались выпускные вечера, и небритые семигруппники сдавали последние зачеты.
Запоздалая нежность к школе росла у них по мере того, как число несданных зачетов уменьшалось. Размякшие, они ходили по школе, как уезжающие бродят по комнатам опустевшего дома, где сняты со стен картины и фотографии, сдвинута мебель и уложены чемоданы.
И, как отъезжающие, они уже ощущали пространство и дорогу.
Они собирались по вечерам у окон и негромко разговаривали:
— Ты куда?
— А ты?
Ковбыш мечтал о море. Ему рассказывал кто-то о Новороссийске, о городе, который качается на воде, как лодка. Ковбыш завидовал выпускникам и проклинал школу.
А Алеша, мечтавший о будущности государственного деятеля, пришел, наконец, на «лимонадный завод» и, кусая губы, сказал хозяину:
— Ну ладно, давай бутылки мыть!
И хозяин долго смеялся, под пикейной рубашкой-апаш колыхался круглый животик.
А Лева Канторович, которого бабушка хотела видеть знаменитым адвокатом, поступил кассиром в бакалейный и москательный магазин своего дяди.
Колтунов пришел туда покупать краски и беседовал с Канторовичем.
— Я думаю о вечности, — говорил другу Лева, принимая у покупателей деньги. — Вы платите за подсолнечное масло? Тогда правильно. Я думаю о вечности, Арсений, вот почему я мирюсь. Это жалко, правда, — кассир в бакалее? Да? Но что мы знаем о вечности? Получите чек, гражданка. Что мы знаем? Я мыслю, я чувствую, я трепещу перед закрытым занавесом и пытаюсь приподнять его, — и что мне тогда бакалея? Может быть, так надо, чтобы я был в бакалее? А ты? Останешься в городе?
— Зачем? — пожимал плечами Колтунов. — Я еду.
— Едешь? А, да! Это хорошо. Едешь? Да. Хорошо это. Здесь бывают часы, когда мало покупателей, я могу читать тогда. Вот у меня «могучая кучка», — он нежно погладил рукою стопку книг. — А когда я читаю, кто равен мне в этом мире? Бакалея! Ха! Я даже могу писать здесь. У меня есть кое-какие мыслишки, но это потом, как-нибудь. Мы поговорим еще. Да, ты едешь… Куда собственно?
— В д-д-деревню…
— В деревню? Что?
— Я б-буду учителем. Это надо сейчас. Ш-шкрабом…
— Шкрабом?.. Школьным работником, значит?.. Это нехорошее слово: шкраб. У этого слова клешни… Говорят, они голодают, деревенские шкрабы? А?
— Наверно… Н-но это неважно…
— Ну да! Конечно. Впрочем, ты все равно сбежишь оттуда через месяц… Там не топят школы зимой. Что ж, ты не мог остаться здесь? Я тебя устрою.
— Спасибо… Я хочу в деревню. Я жил в ней все детство. Мой отец там умер. Он был земский врач.
— Да? Ну, прощай… На выпускном вечере будешь? Я провожу тебя до дверей. Не зацепись за этот бочонок. Масло. Какая погода хорошая!
— Июнь…
— Да… Что я еще хотел сказать тебе? Да… Вот что. А может быть — ты думал над этим? — может быть, мы и в самом деле, — я, еще другие, — может быть, мы опоздали родиться? А? Вот что я тебе хотел сказать.
Колтунов рассеянно посмотрел на Канторовича и ответил, протирая очки:
— Н-не думаю…
Пух с тополей летит по городу.
Утром за чаем мать робко спросила Руву:
— Ну, Рува, ну, что же это будет, ну?
Воробейчик сердито отодвинул чашку с голубыми китайцами и встал.
— Я знаю? — пожал он плечами.
Разговор этот был ему неприятен. Он начал искать кепку.
— Ты перешел в седьмую группу, Рува… — говорила мать умоляюще. — Ты уже большой, ты уже не маленький. Что же будет? Пойди к отцу или брату Соломону, надо же. Или, хочешь, я тебя в фотографию устрою? Это хорошее, выгодное дело. Сейчас все хотят иметь портреты.
— Мама!
— Или нет? Ну, хорошо, реши сам. Но когда же?
Воробейчик нашел кепку: она валялась за сундуком.
— Фотография! — мрачно усмехнулся он. — Ах, мама, если бы вы знали, что у меня на душе!
Он открыл дверь. Пух метался над городом. Одна пушинка села на Рувкину кепку, другая, покрутившись по комнате, обессиленно упала на пыльный пол.
— Здесь не вырастет тополь, — покачал головой Рувка, — никогда! — Он растер пушинку ногою и вышел на улицу.
Мороженщик стоит на перекрестке. Баба над корзиной семечек — как наседка. Мальчик с коробочкой липких ирисок. В деревянной будке продают черный квас. Как изобильна жизнь!
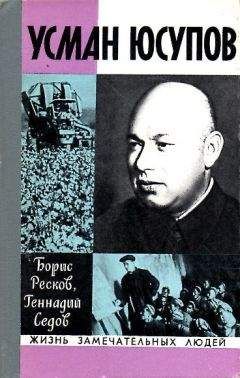
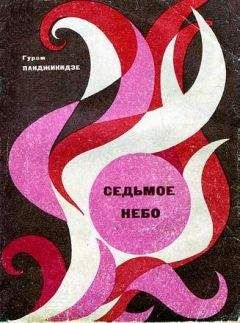

![Елена Сазанович - Смертоносная чаша [Все дурное ночи]](/uploads/posts/books/154688/154688.jpg)