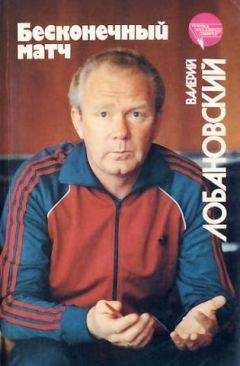Владимир Беляев - Старая крепость
– Хлопцы, помогите! – прошептал он, оглядываясь на соседей.
– А что? – спросил Оська.
– Хлопцы, слушайте, – взмолился Бобырь, – у Котьки есть мой «бульдог». Он принес его в класс. Я подсмотрел, он показывал Тиктору. Хлопцы, я вам за то дам дроби, у меня есть целый фунт дроби. Только помогите, хлопцы!
– А где же Котька? – спросил, вставая, Маремуха. Его глаза загорелись. Он вышел из-за парты.
– Наверх побежал, наверх! – с волнением ответил Бобырь.
Он так волновался, что даже его веснушки побагровели.
Мы нашли Котьку в конце пустого коридора третьего этажа. Он шел из уборной к нам навстречу, заложив руки в карманы.
– Котька, послушай! – дрожащим голосом остановил его Сашка Бобырь.
– Чего тебе? – насторожился Котька.
– Котька, отдай «бульдог»! – сказал Бобырь.
– «Бульдог»? – встревожился Котька. – У меня его нет!
– Не обманывай, есть! – прохрипел Бобырь. – Он у тебя в кармане.
И в ту же минуту Котька прыгнул назад к окну. Наперерез ему бросился Петро и закричал:
– Хватай его за ноги!
Хорошее дело – хватай за ноги! Но ведь это не так просто, как думает Петрусь. Котька размахивает ногами так быстро и сильно, что подойти к нему невозможно. Спиной он отталкивает Маремуху, но тот крепко сжал Котькины руки и не отпускает. Григоренко кряхтит от злости, мотает головой, но вырваться не может.
– Да ну, хватай! Дай ему леща! Что вы боитесь! – подбодрил нас Петрусь.
В эту минуту мне удалось поймать Григоренко за ногу. Я крепко ухватил его за ботинок и потянул изо всей силы к себе. Бобырь понатужился и швырнул Котьку на пол, под самую печь, к ногам Маремухи. Теперь Григоренко нам не страшен. Сейчас мы его обыщем!
– Пустите, сам отдам, – сквозь зубы прохрипел Котька.
– Отдашь? – сидя верхом на Котькиных плечах, недоверчиво переспросил Бобырь.
– Отдам… Ей-богу, отдам, – пообещал Григоренко.
– А ну, пустите его, хлопцы! – приказал Бобырь и вскочил на ноги.
Не очень охотно мы выполнили это приказание. Помятый, взъерошенный Котька, не глядя на нас, медленно поднялся и отряхнул со штанов пыль. Потом он полез в карман и неторопливо вытащил «бульдог». Это был очень хороший револьвер – новенький, блестящий: видно, из него стреляли очень мало.
Бобырь даже облизнулся.
– Ну, дай сюда, – попросил он, протягивая свою длинную худую руку.
– Дать? Что дать? Что ты хочешь?.. – крепко сжимая рукоятку «бульдога», удивленно спросил Котька.
– Револьвер! – простонал Бобырь и протянул навстречу другую руку.
– Револьвер? А, дудки! – И с этими словами Котька, размахнувшись, вышвырнул его в открытое окно. – Нате! – злобно прошипел он, и в эту минуту внизу, на площади, хлопнул револьверный выстрел.
Вот так штука! Это, видно, выстрелил, ударившись о камни, Сашкин «бульдог». Мы присели. А вдруг пулей убило кого-нибудь на площади? Маремуха попятился к лестнице. А Котька, одернув рубашку, злобно улыбнулся и спросил:
– Получили? Фигу с маком?
Только сейчас мы пришли в себя, поняли, как ловко обманул нас Григоренко.
– Ты… ты… к папе захотел? – выкрикнул, заикаясь, побледневший Сашка Бобырь.
– Подожди! – остановил Бобыря Петька. – Побежали на балкон, посмотрим!
Мы помчались по коридору.
– Он что у тебя – самовзвод? – догоняя Бобыря, с сочувствием спросил я.
– Ну да, самовзвод… – жалобно ответил Сашка.
Мы осторожно выглянули с балкона на улицу. На площади пусто.
Желтые листья валяются на камнях. На самом углу гимназии, под тем окном, из которого только что выбросил револьвер Григоренко, стоит какой-то красноармеец и смотрит вверх, на третий этаж, где ветер качает обе половинки открытого окна.
Постояв немного под окном, красноармеец сунул револьвер в карман и медленно, то и дело оглядываясь, пошел прочь.
Сашка с тоской следил за каждым его шагом. Никогда уже не видать ему своего «бульдога». Да и мы все с сожалением смотрели вслед красноармейцу, а я подумал даже: «Не побежать ли за ним вдогонку?» Мне казалось, что, если бы как следует попросить красноармейца, он бы отдал нам оружие. Зачем он ему, этот маленький пустяковый револьвер с мягкими свинцовыми пульками? Ведь, наверное, у красноармейца есть наган. Но пока я думал так, красноармеец скрылся за кафедральным собором. Бежать было поздно.
Уже в классе Котька Григоренко, отойдя к учительской кафедре, погрозил:
– Мы еще с вами поквитаемся! Погодите…
– Ладно, ладно. Еще захотел? Гадюка петлюровская! – со злостью ответил Маремуха.
В класс вошел с нотами под мышкой Чибисов, и Котька, озираясь, сел за парту.
Вскоре после этого случая от Яшки Тиктора мы узнали, что во второй трудовой школе на Тернопольском спуске в старших классах изучают какой-то новый, не знакомый нам предмет – политграмоту…
– Это про политику, наверное, – важно объяснил Бобырь.
– Откуда ты знаешь? – недоверчиво спросил Маремуха.
– Вот и знаю… я все знаю… – запрыгал Сашка. – Мой старший брат посещает комсомольскую ячейку у печатников, он мне говорил такое самое слово.
– А почему у нас нет этой… как, Яшка? – спросил Маремуха.
– Политграмоты, – подсказал Тиктор.
– Почему нет? А разве ты не знаешь почему? – ответил Бобырь. – Учителя не хотят, вот почему! Разве у них политика на уме? Вот пойдем пожалуемся…
– Куда ты пойдешь, куда? – затоптался около Сашки Маремуха. За это лето он почернел и даже немного подрос.
– А в тот красный дом, что за Новым бульваром! – смело предложил Бобырь. – Мой брат говорил, что в том доме все начальники жалобы от людей принимают.
– Ну, в красный дом… – испугался Маремуха. – Зачем туда? Надо у Лазарева просить…
– Чудак, – сказал я, – Лазареву самому трудно нам помочь. Он пока один, а этих гадов, вроде Родлевской, много. Они его и так заедают.
На следующий день после уроков мы возвращались к себе домой на Заречье. У меня на душе было легко и радостно – уроки нам задали пустяковые, на дворе стояла хорошая погода. Ярко светило солнце, оно заливало весь наш старинный город своими ясными лучами, освещая сухие, чуть синеватые плиты тротуаров, отражаясь в лужицах воды, не просохшей еще после ночного случайного дождя.
Я щурился, глядя на солнце, и думал: как бы хорошо было, если бы круглый год стояло лето! А ведь скоро наступит зима, начнется она с легких заморозков, крыши по утрам будут седые, завянет зеленая трава на огороде, упадет, мертвая, на землю, а потом пойдут морозы один другого сильнее, и река вдруг остановится под Старой крепостью. Бросишь бабку, она запрыгает по льду, заскользит и даже следа не оставит: таким гладким, скользким, прозрачным будет первый, еще очень тонкий лед.
Но тут же я представил себе, как хорошо будет бегать утром, на первой перемене, по школьному двору да проламывать затянутые с ночи тонкой коркой льда лужицы.
Это очень приятно, когда в ясное, морозное утро ноги будто сами несут тебя по мерзлым кочкам! Попадешь с разгона носком в такую лужицу – лед с хрустом проломится, зазвенит, а ты уж помчался дальше, и подошвы сухие. А потом как хорошо после переменки, с холода, вбежать в светлый класс да, пока не вошел учитель, прижаться животом к теплой, чуть-чуть пахнущей краской натопленной печке! И мне стало совсем не жалко, что уходит осень и скоро наступит зима. Это даже лучше. Наточу свои «нурмисы»…
Но вот впереди раздался сильный и дрожащий голос Сашки Бобыря.
Сашка вдруг запел:
Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады…
Пел Сашка плохо, по-козлиному, совсем не так, как пели эту песню красноармейцы, что стояли в епархиальном училище. Я хотел было крикнуть Сашке, чтобы он замолчал, как вдруг с ним вместе запел и Маремуха.
Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка,
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка, -
пели они уже вдвоем, маршируя по круглым булыжникам.
Теперь было трудно удержаться и мне. Мы пошли прямо посреди мостовой, как настоящие военные. Шли и пели:
И много есть у нас ребят,
Что шли с отцами вместе,
Кто подавал патрон, снаряд,
Горя единой местью…
Прохожие останавливались и глядели нам вслед. А мы не обращали на них никакого внимания. Кто нам мог что сделать? Кто мог нам запретить петь? Так, с веселой песней, мы вышли на Новый бульвар. Но вместе идти по узенькой тропинке было трудно. Мы пошли гуськом, и песня сразу оборвалась. Здесь было совсем как в лесу: просторно, много голых деревьев, а вокруг ни одного камешка, только холмы да канавы.
Ветер гнал желтые, сухие листья. Ноги вязли в них, даже когда шли по тропинке. Вдруг Бобырь с разбегу прыгнул в засыпанную листьями канаву. Он растянулся там, как жаба.
– Вот мягко, хлопцы, поглядите! – барахтаясь, кликнул он нас.
Мы, как в воду, бросаемся за ним в канаву, разрываем листья, подбрасываем их горстями кверху, осыпаем золотым дождем друг друга. Они летят над нами, как огромные красноватые бабочки, и, виляя кривыми хвостиками, устало падают на пожелтевшую землю.