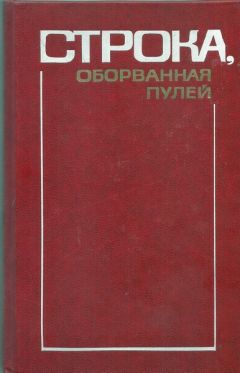Борис Лапин - Избраное
ИЗ КНИГИ «СТАЛИНАБАДСКИЙ АРХИВ»
Горные песни
Проезжая по горным ущельям Таджикистана, можно встретить целые селения, славящиеся искусством составлять песни. Это называется «назм» — «нанизывание жемчугов». Кузнецы Ванча, красные от огня, поют «рубайи» и «каты», приплясывая у горна. Женщины, стряхивая в мешки, разостланные по земле, крупные ягоды тутовника, кричат на высокой ноте рифмованные запевки.
Этнографические экспедиции старательно собирают обрядовые и религиозные песни, проходя мимо обширных богатств устной поэзии, возникшей среди крестьянской бедноты, в колхозах, среди рабочих хлопкоочистительных заводов.
Изучая весной 1931 года песню горцев, мы видели две пересекающиеся линии. Влияние традиционной риторической поэзии бухарских одописцев, сказывавшееся в мертвой архитектурности форм, перекрещивалось с влиянием новых отношений и новых понятий, созданных эпохой социалистической реконструкции.
Известный Хусаинов, убитый басмачами в мае 1929 года, был одним из первых в горном Таджикистане, кто объявил войну громадному давлению прошлого, заставлявшего даже гармских курсантов петь революционные гимны на рифмы, сочиненные поэтами тысячу лет назад. Он учился начаткам литературы у нищих кузнецов Ванча в те дни, когда лавина отрезала путь в соседние ущелья. Приходили пастухи и пели цветистые гимны господу-богу. Солевары из Вахии, остановившиеся в селении на ночлег, коротали досуг, читая друг другу упражнения старинных бухарских риторов.
Таджикские крестьяне читали наизусть поэмы и «диваны» напыщенных поэтов, передаваемые на слух от старшего к младшему, и в то же время не умели подписать свое имя, прикладывая на бумагах синий отпечаток большого пальца.
Жизнь горцев, времен последнего эмира Мангыта, была ужасна. В стихах и песнях они говорили о мраморе, кипарисах, душистых пчелах, о султанской стряпухе с лицом луны, подающей фаршированных павлинов при свете факелов. Пробираясь через вечную мерзлоту перевалов, горец затягивал бесконечную песню: «Гей ты, роза, гей ты, роза. Розу любит соловей. Гей, красавица моя, высокая, как пальма». В действительности в горном его ущелье не было ни пальм, ни соловьев. Там не вызревала даже пшеница, а только ячмень и гималайское жито. Мир горца состоял из закопченных курных хижин (здесь топят по-черному, а для света жгут обмотанные льном лучины — их называют «чирок-и-сийо»), еды впроголодь, жалкого загона для овец, невежества и раболепства перед людьми и богом. В те дни, когда этот мир начал разваливаться, появились первые зачатки новой таджикской песни. Мы встречали Хусайнова в Самарканде и Канибадаме в 1925 и 1927 годах. Он ревностно и ожесточенно выступал на защиту «трудовой нашей песни» против «этих феодальных мотивов, которые засоряют мозги таджикского рабочего класса». Образцы, которые он показывал, разумеется, носили следы влияния прошлого, тем не менее они были принципиально новым явлением.
— Родилась советская революционная песня, с новыми темами и новой формой, а вы ее мало замечаете, — говорил нам Хусаинов.
На улицах Сталинабада, таджикской столицы, вы видите много новых домов из стекла и бетона, старые глиняные кибитки с глиняным очагом, много фордов и велосипедов, меньше верблюдов и горных осликов; много пиджаков, кепи, галстуков, мало шелковых халатов и ярких чалм; совсем нет закутанных в голубые мешки, с черными из конского волоса намордниками, женщин.
Горец привязывает коня у столба «красной чайханы» на главной улице Сталинабада. Он одет в дерюжную чалму, короткие штаны и деревянные туфли. В широком цветном полотенце, заменяющем ему пояс, завязано несколько лепешек, бумажка сельсовета с требованием на семена и ситец, пачка денег, приготовленных для закупок в городе.
Горцы с Памира, Каратегина и Дарваза, высокие, бородатые, медленные в движениях, заметно выделяются среди жителей долины. В устной поэзии советского Таджикистана горцы занимают особое место. Они создали свой жанр «стихов удивления», в которых горец впервые рассказывает о долинах и о социалистическом строительстве бывшей Восточной Бухары.
Собирая и переводя песни, таджиков, мы прежде всего столкнулись с рядом песен рабочих хлопкоочистительных заводов, вернувшихся из долин в родные горы, с песнями долинных колхозников, распеваемыми во время хлопкового сева и уборочной кампании, с протяжным припевом «додай» и «вай-джон», с песнями, отражающими борьбу трудового дехканства с контрреволюционным басмаческим движением.
1. ЗАПЕВКА
И Самарканд и Кандагар — я видел,
И сон пустыни и базар — я видел,
И треть Мухаммедова мира[7] — видел,
И снег высокого Памира — видел.
Копал канавы и лепил кувшины,
На спину гор втаскивал хурджины[8],
И по тропе, хромая к перевалу,
Я доходил до каменной вершины.
Но никогда такого чуда я не видел,
Как Дюшамбинская железная дорога[9].
2. Мунаввар-Шо. КЕМ БЫ Я ХОТЕЛ СТАТЬ[10]
Не муллой и не купцом я хотел бы стать.
Не дервишеским слепцом я хотел бы стать,
И не сыном богача, разодетым в шелк,
С нарумяненным лицом, я хотел бы стать.
Не владельцем переправ[11] я хотел бы стать,
И не жирным, как сарраф, я хотел бы стать.
И не лекарем старух, с хиной и сурьмой,
Как базарный костоправ, я хотел бы стать.
Агрономом и врачом я хотел бы стать,
Деревенским избачом я хотел бы стать,
Тем, кто взроет старый мир словом Ильича,
Как крестьянин омачом, я хотел бы стать,
И народным комиссаром я хотел бы стать.
3. ПОИМКА АБДУЛЛО-XAHA,
локайского курбаши (бандитского главаря)[12]
Рысью шли по узкой тропинке локайцы,
Грива шла за гривой и конь за конем.
— Хей, Абдулло-хан, скорее возвращайся,
Довольно забавляться винтовкой и огнем.
Сказал Абдулло-хан: — Трусливые овцы.
Кончим бой, и каждый получит дастархан[13].
Сказали локайцы: — Разве мы торговцы
Кровью и жилами и кожей дехкан?
Тогда Абдулло-хан вынул из подвойника
Медью обшитый английский карабин
И застрелил трех злосчастных покойников[14].
И повел отряд на Мазар-Ходжауддин.
Впереди усатые кулацкие дети,
Подскакивая юргой, тащили пулемет,
А сзади унылые служки из мечети
Списывали новых трех убитых в расход.
И запевали веселыми голосами
Песню о победе кудрявые бачи,
Им отвечали печальными голосами
Скрытые в арьергарде флейтисты и трубачи:
Под горой конь бежит,
По тропе погонь бежит,
Из ноздрей огонь бежит,
Гей, Абдулло-Джон.
Гей, душа, Джон, душа,
Гей, Абдулло-Джон — душа,
Эй, Абдулло-Джон — душа,
Тигр Абдулло-Джон.
Ехали дальше, к хишонскому перевалу,
По снежному обрыву гуськом, гуськом.
И сказали локайцы: — Чего нам недоставало,
Когда мы домовали над своим очагом?
И сказал Абдулло-хан: — Ударьте в барабаны
И коней соберите на подгорбине горы —
Мы будем судить вас, отступники от Корана, —
И выхватил маузер из деревянной кобуры.
И вот он повел их по скалистой опушке
В последний суровый и безрадостный поход,
И в брошенной мечети хмурые служки
Списывали новых трех убитых в расход.
И тихо, позванивая саблями о ветки,
Всю ночь сквозь бурс[15] шел бандитский отряд,
Пока не услышали локайцы из разведки,
Как тени в ущелье ползут и говорят.
Это не тени. Это ожидает
Красная засада гиссарских дехкан.
Это не тени. Под звездой сверкает
Вороненым дулом бедняцкий наган.
В эту темную ночь, друзья, был пойман Абдулло хан, локайский курбаши, враг трудового народа.
4. ПЕСНЯ ГОРЦА
Кто видел сажу и пепел[16] у логовища луны?
Кто видел белку и зайца в горах шакальей страны?
Кто видел верность от женщин, от сабли и от коня?
Кто видел муллу и князя без туго набитой мошны?
Кто это видел, брат?
Бывали у нас солдаты из царственной Бухары,
Бывали у нас чиновники, считали наши дворы,
Бывали у нас отрядники из свиты Салим-Подшо[17],
Бывали у нас. И часто в садах горели костры.
Все бывали у нас, брат.
Я слышал, — есть государство, где вечно светит луна.
Я слышал, — там есть базары, где царствует тишина.
Я слышал, — когда дарвазцы ласкают своих цариц,
То вечность им коротка, а минута слишком длинна.
Вот что я слышал, брат.
Я слышал, видел, помню, но знаю только одно —
Все эти басни постылы, как выдохшееся вино.
Я знаю, — в Сталинабаде[18] стоит великий майдан,
Где клубы, автомобили, огни, заводы, кино.
Вот что я хорошо знаю, брат.
5. ПРИГЛАШЕНИЕ