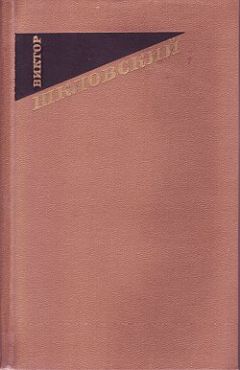Виктор Шкловский - За и против. Заметки о Достоевском
Сперва, говорит Достоевский, «Анна Каренина» показалась ему повторением «Войны и мира», причем повторением ослабленным. Вронского он называл «жеребцом в мундире». Поразили Достоевского в романе две сцены: примирение Каренина с Вронским у постели больной Анны и разговор на сеновале.
Сцена примирения, которая у Толстого является только частью развития характера Каренина и потом сменяется отказом Каренина дать развод, для Достоевского был окончательный, не только кульминационный, но и разрешающий всю трагедию эпизод.
Достоевский писал: «Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали».
Эта сцена, в которой временно торжествует все, но не навсегда простивший Каренин, а Анна смиряется, для Достоевского как бы конец романа.
Но Достоевский увидел и другую сторону романа, не связывая ее с решениями моральных проблем. Глава об этой стороне названа «Злоба дня»; это споры о социализме.
«Злоба дня» – сцена на сеновале; оказалось, что Левин, как когда-то Онегин, «готов броситься на колени перед новым убеждением и жадно с благоговением принять его в свою душу».
Твердо стоящий на земле Толстой, успехам которого Достоевский ревниво завидовал, увидал будущее, определил «злобу дня», хотя так же, как и Достоевский, пытался заслониться от знания религией. Но у Толстого семейная история Карениных и Левиных и спор на сеновале – результаты одного процесса.
Вера собственников истлевала и искуривалась; Левин не знает, почему он имеет право жить лучше, чем живет мужик. Разговор идет о собственности, и Достоевский, приводя его, восклицал:
«Вот разговор. И уже согласитесь, что это «злоба дня», даже все, что есть наизлобнейшего в нашей злобе дня. И сколько самых характерных, чисто-русских черт! Во-первых, лет сорок назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, многим ли и там были известны Сен-Симон и Фурье – первоначальные «идеальные» толковники этих идей, а у нас, – у нас знали тогда о начинавшемся этом новом движении на Западе Европы лишь полсотни людей в целой России. И вдруг теперь толкуют об этих «вопросах» помещики на охоте, на ночлеге в крестьянской риге, и толкуют характернейшим и компетентнейшим образом, так что, по крайней мере, отрицательная сторона вопроса уже решена и подписана ими бесповоротно. Правда, это помещики высшего света, говорят в Английском клубе, читают газеты, следят за процессами и из газет и из других источников; тем не менее уж один факт, что такая идеальнейшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не специалистов, а просто светских, Облонских и Левиных, – эта черта, говорю я, одна из самых характерных особенностей настоящего русского положения умов».
Вопрос о собственности кажется морально решенным не только правдолюбцу Левину, но и жуиру, умеющему наслаждаться жизнью, Стиве.
Этот потомок Рюриковичей легкомысленно соглашается, что никакой нравственности уже и нет.
Достоевский считает, что когда Стива разорится, то он может стать одним из червонных валетов – дворян-авантюристов.
«…этот господин прямо говорит: «Надо одно из двух, или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, ила признаваться, что пользуемся несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием». Т. е. в сущности он, подписав приговор всей России и осудив ее, равно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: «Я, дескать, сознаю, что я подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. Après moi le déluge». Это потому он так спокоен, что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет – почему же ему не стать валетом, – самая прямая дорога».
Нужно сказать, что Толстой не смог сделать Стиву отвратительным или не захотел этого сделать.
Разночинец Достоевский считает, что культурная роль дворянства кончилась, хотя в то же время мечтал, чтобы его дети имели землю, что должно было им давать право на политическое управление государством.
Но эта, казалось бы, крепкая, устоявшаяся, завидная для Достоевского и привлекательная помещичья жизнь искурилась дымом.
Сомнения Левина элементарны, но убедительны: «…всякое приобретение, не соответственное положенному труду, не честно».
В разговоре оказывается, что нечестно и землевладение; потом это становится одной из основных мыслей Толстого.
Федор Михайлович оказывается поставленным между Левиным и Облонским. Он хочет думать, что Левин – это Влас, тот некрасовский мужик, который бросил все и пошел собирать на построение храма; этим подменяется сущность колебаний Левина.
«…Левиных в России – тьма, почти столько же, сколько и Облонских. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создал ему в романе художник, я говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную… Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего почти еще разрешить не умеют…
Он дойдет до последних столпов, и если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо, то, в противоположность Стиве, который говорит: «хоть и негодяем, да продолжаю жить в свое удовольствие» – он обратился в «Власа», в «Власа» Некрасова, который роздал свое имение в припадке великого умиления и страха.
И сбирать на построение
Храма божьего пошел.
И если не на построение храма пойдет собирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такою же ревностью».
Достоевский хотел бы и самого Некрасова сделать Власом – повернуть на церковную дорогу.
Главное было не в храмах, а в том, что надо давать силам скитальца иное применение, и некрасовский Влас получал неожиданных попутчиков.
Страх перед приближением торжества социализма владел Достоевским. Победа пролетариата казалась ему близкой.
В главе «Дневники писателя» за 1877 год, названной «Злобой дня в Европе», Достоевский писал про то, что буржуа стал на место рыцаря: «Где же тут право, тут одна история».
Движению пролетариата 70-х годов Достоевский не сочувствует и его боится, не понимая его: «Правда, прежде, недавно даже, была и там нравственная постановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были спросы, споры и дебаты об разных, весьма тонких вещах».
С борьбой за новый социализм Достоевский спорит, выдвигая свое знание человеческой души, и спорит, стоя на точке зрения буржуа.
Социалисты, указывает Достоевский, отказывая буржуа в братстве, «идут на них просто силой, из братства их исключают вовсе…»
Достоевский возражает и не от своего имени, называя буржуа «они».
Следующая глава доказывает, что у нас будет не так – будет «русское решение вопроса».
В отрицании Достоевский силен. Утверждения его ложны, но все силы его внимания устремлены на приближающуюся, хотя им и отрицаемую революцию.
Достоевский настаивает на добровольном религиозном смирении слабых перед сильными и опять вступает на дорогу инквизитора.
Но он видит, что старое кончилось. «Новь», – так он называет, пользуясь названием только что вышедшего романа Тургенева, революцию, – для него страшна, он заклинает ее:
«Я же безгранично верую в наших будущих и уже начинающихся людей, вот об которых я уже говорил выше, что они пока еще не спелись, что они страшно как разбиты на кучки и лагери в своих убеждениях, но зато все ищут правды прежде всего, и если б только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью. Поверьте, что если они вступят на путь истинный, найдут его, наконец, то увлекут за собою и всех, и не насилием, а свободно. Вот что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять нашу «Новь».
Жизнь менялась. Спор снова шел о религии, о том, что реально в русской жизни и каков завтрашний день, какова новь.
Спор шел о том, перевернулась ли Россия в самых своих основах или народ – для Достоевского крестьянство – не изменился. Об этом произнес речь Достоевский на пушкинском празднике.
«В этой речи имя Льва Николаевича Толстого не упоминается совсем, – писал в воспоминаниях Н. Страхов. – Имя Наташи Ростовой было названо рядом с именем Лизы – героини тургеневского «Дворянского гнезда». Когда Достоевский произнес имя Лизы, раздались аплодисменты, а сам Тургенев послал Достоевскому воздушный поцелуй. Аплодисменты усилились, и в них потонуло имя Наташи.
Достоевский в печатном тексте речи Наташу Ростову не упомянул».
С нашей точки зрения, имя толстовской героини вело к слишком далеко идущим ассоциациям.