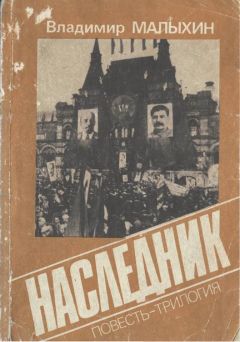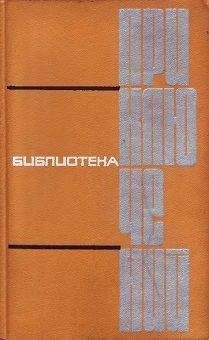Лев Славин - Наследник
Это случилось после революции, которая оказалась также революцией во мне самом. Может быть, немножко раньше революции, должно быть, в каждом человеке есть революционное подполье.
Тут я запутывался в рассуждениях о переменах, происходящих во мне и в других. Я лишь догадывался, что причины их надо искать, наблюдая не только людей, не только вещи и даже не только действия, а наблюдая движение людей, вещей и действий, подобно тому, как разгар болезни или, напротив, ее утихание узнается по не бывшим прежде прыщам на языке, или по свисту в легких, или по тому, что больной вдруг начинает уверять родственников, что все предметы отстоят от него на невероятном отдалении и что если ему все-таки удается, протянув руку, достать с ночного столика стакан с сахарной водой, то это только потому, что рука его тоже выросла, растянувшись в длину не менее чем на три километра, и, погружая это колоссальное удилище в мир, он может оттуда вытаскивать предметы, нужные ему для существования: термометр, ночной сосуд, руку матери. С больным этой последней категории я сравниваю себя, но уже в периоде выздоровления, когда все предметы вокруг начинают возвращать свои обычные размеры, так что я уже не кажусь себе больше, чем крошечный Стамати, или меньше, чем огромный отец Шахов.
Признаться, мне становится скучно от этих рассуждений. Да ведь, собственно, и рассуждать-то было некогда. Белые вышибли нас с Садовой-Кудринской. Мы оросились в наступление, раздобывши орудие. Отряд Двигался по Никитской – впереди с пулеметом я, дальше орудие, еще дальше красногвардейцы. Ими командовал вагоновожатый Щепетильниковского парка, маленький блондин с незначительным лицом и прекрасной шевелюрой. Он был в форме трамвайных служащих и с личным номером на груди – сто сорок девять. То и дело он прибегал ко мне.
– Знаешь, товарищ, – говорил он, – я уже четыре дня не евши, – тяжело.
– Да, – говорил я, внимательно озирая пустые проезды Никитской, – конечно.
– Знаешь, товарищ, я уже четыре дня не видел невесту. Смотри, вот карточка. Хорошая девчонка? Она ткачиха.
– Да, – говорил я, косясь на фотографию, – ничего.
Прибежали разведчики и, волнуясь, выкрикнули, что на Кудринскую площадь прорвался белый броневик. Тотчас возле нас стали ложиться снаряды. Впервые за все дни уличных боев я почувствовал страх. Он выразился в том, что я ощутил мгновенно всю хрупкость своего черепа, мягкость и даже текучесть тела, покрытого не более чем кожей – притом не крепкой, измозоленной коркой пролетария, а нежной розовой пленкой интеллигента, источенной постоянными умываниями.
– А ну, ребята, – крикнул вагоновожатый, тряхнув шевелюрой, – запрягайся! – и сам приналег на орудие.
Со всех сторон набежали люди. На руках мы докатили орудие до Кудринской площади.
Увидев нас, броневик сделал молниеносный круг и исчез.
Тут мы уже не могли остановиться. Штыками мы выбили юнкеров из окопов Новинского бульвара. Пошло стремительное наступление. Мы гнали белых по Ржевскому, Трубниковскому и Скарятинскому переулкам, набитым особняками Второвых, Морозовых, Щепотьевых, Щекутьевых, быть может, моих дядюшек и кузенов. Мы опрокинули белых на Поварской.
– Не геройствуй, Сережа, не геройствуй! – говорил я себе, выбегая на Арбат и устраиваясь с пулеметом на перекрестке.
Прохожие разбегались с таким же точно ненатуральным визгом, как летом от дворника, поливающего улицы водой. Мы преследовали белых до Александровского сада, просовывая штыки сквозь садовую решетку, сделанную в виде дикторских прутьев с вызолоченными топорами.
«Что, если бы здесь, – думал я, переводя дыхание, – между римскими секирами и маленьким писсуаром, похожим на башню броневика, возник в мягкой бархатной шляпе, принятой среди помещиков нашего уезда, и в лаковых штиблетах с резинками непременный член по крестьянским делам присутствия Николай Алексеевич Иванов? Что сказал бы отец мой, – продолжал я развивать эту захватившую меня мысль, забегая юнкерам в тыл со стороны Смоленского рынка, – увидев меня борцом за социальную революцию, он, чьи революционные дела не шли дальше анонимных писем губернатору о том, что он-де ретроград и гонитель света, и изредка – на открытии церковно-приход-ских школ – произнесения речей в защиту высшего женского образования?»
И к этому моменту, когда мы перешли наконец Бородинский мост и обложили осадой Смоленскую школу прапорщиков, я окончательно пришел к убеждению, что то, что мы сейчас делаем, – это есть процесс ликвидации всего осужденного Чеховым. Слегка расставив ноги и сощурив левый глаз, я методически слал пули не только в юнкеров, в панике забаррикадировавших окна шубами, сапогами, пуховиками, коврами, но и в самый институт частной собственности, в банки («Прицел четыреста!»), в скуку, в безыдейность, в ипотеки, в Продуголь, в жандармерию, в деспотизм – покуда винтовка не накалилась.
Нас сменили, и я, изнемогая от усталости, пошел спать в Московский Совет.
Здесь был настоящий лагерь. Всюду – объедки воблы да канцелярские корзины, набитые гранатами. То и дело приходили меньшевики и эсеры и предлагали свои услуги для ведения мирных переговоров с белыми. Я разыскал Стамати, возле него стоял мой старый знакомец Рымша. Он пожал мне руку, сказав с чувством:
– И вы с этими безумцами!
Потом, снова обратясь к Стамати:
– Я гарантирую рабочим свободу и безнаказанность при условии сдачи оружия. Полковник Рябцев лично Дал мне слово.
Володя, скучая, отмахнулся рукой и лег на пол. Я – рядом с ним. Опустился и Рымша.
– А вы почему не с нами? – спросил я.
– Это ужасно, – ответил он, – я только что из Питера, там сделана та же ошибка. Поймите, нельзя брать власть! Я до хрипоты спорил с Кипарисовым, он сейчас в верховодах, такой же фанатик, как и вы все здесь. Поймите, слепцы, что вы своей скороспелой победой оттягиваете торжество социализма на сотни лет. Почему бы не подождать, пока капитализм сам падет, сгнив на корню? Ведь это должно случиться скоро, совсем скоро.
Рымша смотрел на меня умоляющими глазами, словно я мог встать и устроить так, чтобы капитализм гнил еще скорей.
Я подмигнул Володьке. Я знал взгляды Рымши. Он питал отвращение к действию. О да, он был уверен в том, что капитализм умрет. Он даже жалел немного капитализм, как жалеют обреченных, умирающих. Он глядел – по доброте свой натуры – с жалостью на броневики, на идеалистических философов, на стихи символистов, на банковские палаццо. На всю силу и красивость капитализма он смотрел с жалостью, как смотрят на румянец туберкулезного.
– Смотрите, Рымша, – сказал я, обводя рукой зал, наполненный вооруженными рабочими, чисткой винтовок, храпом под столами, клубами махорки, взлетающими к плафону. – Разве это не прекрасно? Восстание пролетариата.
– Да, конечно, – пробормотал Рымша, поглядывая на зал без большого удовольствия.
Я установил, что Рымша не переменился. Рабочих он любил отвлеченно, метафизически – «рабочий класс». А каждого в отдельности рабочего чурался, считая его грязнухой, хулиганом, лодырем, алкоголиком и тупицей.
– Слушайте, – сказал Рымша с досадой, – это же старая история, повторяется Великая французская революция: вы приведете к власти Бонапарта.
– Вы не видите жизни, Рымша, – сказал я строго, – ваше состояние – это борьба одиночки с объективной действительностью. Вы ведете на нее всю армию своей фантазии, огромную, но призрачную, и – погибаете.
– Не в том дело, – вдруг вмешался Стамати, приподнимаясь с пола, – при чем здесь французская революция? У вас, Рымша, как бы это сказать, – несвободный ум. Вы мыслите аналогиями.
Сказав это, Володя завернулся в шинель и уснул, Я тоже завернулся в шинель и уснул.
На следующий день я дежурил в Петровском парке. Со мной был Степиков. Предполагалось, что казаки могут двинуться на Москву со стороны Всехсвятского, или Лосиного Острова, или Петровского-Разумовского.
Однако все было спокойно. Под ногами шуршали листья. Пахло милым тлением осени. Небо казалось отставшим от века. И если говорить о пейзажах, то все это – и закат, и перистые облака, смахивавшие на крылья врубелевских демонов, и японское трепетанье сосен, – казалось, было сделано рукой художника не бездарного, но вконец испорченного долголетним торчанием в галереях и копированием модных мастеров, отчего все его творчество (и в данном случае Петровский парк) носило характер засушенный, выставочный и, уж конечно, – думал я, сожалея едва ли не впервые в жизни, что рядом со мною Степиков, а не человек поинтеллигентней, кто мог бы войти в обсуждение этих проблем, – не могущий идти в сравнение с картинами хотя бы уличного боя. Тут я не без удовольствия вспоминал себя, вбегающего с красным знаменем в пороховом дыму (однако опять не первым, но позади все того же Степикова!) в здание Алексеевского военного училища, объявившего о своей сдаче.