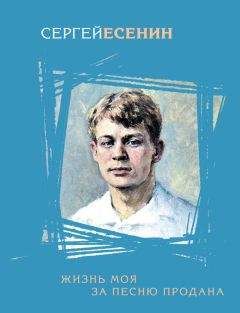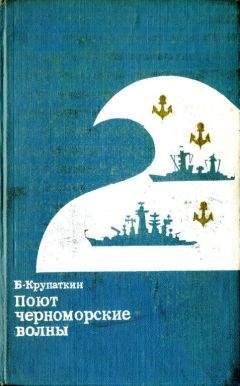Константинэ Гамсахурдиа - Похищение Луны
В это время вошел Зосима. Скинув у очага вязанку дров, он сел на прежнее место и стал подбрасывать поленья в огонь.
На мельнице было тихо.
Как завороженный, смотрел Тараш на Зосиму, слушая шипенье и треск ясеневых дров. Наконец не выдержал и обратился к Лукайя:
— Кому принадлежала эта мельница раньше?
— Князю Дадиани.
— А сейчас?
— Колхозу.
— Кто поставил Зосиму мельником?
— Село.
Тараш замолчал.
— Зосима долго голодал, — продолжал Лукайя, — пока, наконец, его не пожалели и не поставили мельником.
Зосима все так же каменно молчал, точно не о нем шла речь. Обычно бледное его лицо раскраснелось от жара очага.
Сидел, нахмурив косматые брови, будто таил обиду даже на этот благодатный огонь.
И вдруг, после томительного молчания, обратился к Лукайя:
— Ты бы, парень, подал гостю молока. Там немножко осталось в горшке. Из твоих рук он не побрезгует.
Потом встал и грузно улегся за мешками с мукой.
Тарашу стало смешно, что мельник назвал Лукайя «парнем» и при этом даже не повернулся к собеседнику.
Нелюдимость Зосимы поражала и тяготила. Оглядев Тараша, когда тот вошел в его лачугу, Зосима после этого уже ни разу не взглянул на гостя.
Лукайя поднялся за молоком. Тараш отказывался, хотя и был голоден. Но все же Лукайя настоял на своем. Схватил ручку мотыги, валявшейся тут же, и заковылял к деревянному шкафу, приколоченному к стенке. Достал горшок с молоком и подал его Тарашу.
Тараш взял горшок, и только поднес ко рту, как у него мелькнула мысль: «Не из этой ли миски кормит Зосима свою змею?»
Его чуть не стошнило.
Потом подумал — все это предрассудки, змея чиста, как и всякое живое существо.
Сделав над собой усилие, он выпил холодное, неприятное на вкус козье молоко.
Снова поднялся Лукайя, долго возился за мешками. Тяжело кряхтя, вытащил для Тараша расшатанную лежанку, поставил ее у очага, принес мутаку и овчину.
— Приляг, — предложил он Тарашу и стал на колени, чтобы стащить с него сапоги.
Но Тараш не позволил: не любил он, чтобы ему помогали разуваться. С большим трудом он сам стянул с себя мокрые сапоги.
Пока он возился с застежками архалука, Лукайя захрапел. Из-за мешков, где лежал Зосима, тоже доносился храп.
Тараш, лежа на койке, смотрел, как мерцала и таяла угасавшая лучина, как трепетала на ней последняя вспышка огня.
Мельница погрузилась в непроницаемый мрак.
Угли в очаге давно потухли. Тараш повернул голову к закоптелому окну и обрадовался, увидев на белесоватом небе луну.
Долго лежал он, думая о мельнице, о Лукайя, о Зосиме. Вспомнил о горшке с молоком, забытом на полу у постели, хотел было подняться и убрать его, чтобы утром, вставая, не толкнуть горшок и не разбить. Но поленился.
Голова совсем разболелась. Когда остыл очаг, Тараша охватила дрожь. Непрерывная зевота овладела им, ноги отяжелели и замерзли. Он пожалел, что разулся. Его начало трясти. Головная боль стала невыносимой. Ледяной и скользкой казалась мутака. Он подложил под голову руки. Кровь стучала в висках. Сердце учащенно билось. Казалось, тело у поясницы разрублено пополам. Стыли, пухли руки и ноги.
Порой ему чудилось, что лежанка качается и быстрое течение уносит куда-то и его самого, и все, что его окружает.
Он выпростал руки, лег ничком и крепко обхватил края лежанки. Не помогло и это. Легче пушинки показалась ему громадная овчина.
Ах, если б кто-нибудь накрыл его тяжелым, как свинец, и горячим, как раскаленное железо, одеялом! Он весь трясся, едва удерживаясь на койке, и стучал зубами так громко, как в бессильной злобе стучит клювом пойманный дрозд, когда к нему протягивают руки.
После долгих мучений, туго завернувшись в овчину и слегка вспотев, он наконец задремал…
Тараш не мог сообразить, отчего он проснулся: от отчаянного кошачьего воя или от лунного луча, падавшего ему прямо на лицо.
Какие-то ужасные вопли наполняли мельницу. Сначала нескончаемо долго мяукала одна кошка, затем другая. Послышался еще чей-то вопль. И наконец все смолкло.
Тараш прислушался.
Выли шакалы. Выли где-то совсем близко, — должно быть, у самой мельницы. Но это были не только шакалы. Хриплым, дребезжащим голосом кричали рыси.
Не понять, вместе ли они держатся — шакалы и рыси, — или поодаль друг от друга.
Одно было ясно: в визгливый лай шакалов вплеталось хриплое рычанье рысей.
Повернулся на другой бок. Теперь ему было необыкновенно приятно лежать на этой глухой мельнице в окружении леса.
На некоторое время шакалы замолчали, и снова замяукали, завыли кошки.
Одна тянула долго, протяжно. Потом раздался пронзительный визг самки (точно разодрали кусок бязи). И снова вой. И вот схватились — тот, что выл, и та, что визжала.
Опять все смолкло.
Затем послышался тихий, мерный стук, точно капала вода. Скрежет, шелест, свист. При свете луны Тараш заметил, как несколько крыс шарахнулись от того места, где валялись обугленные головешки. Но одна из них, посмелее, подошла совсем близко к его постели. Он увидел длинный, шнурообразный хвост.
Омерзительным показался Тарашу этот скользкий хвост. Такой же, должно быть, липкий и противный, как крылья летучей мыши (если кто-либо из вас брал в руки летучую мышь).
Крыса подбежала к лежанке, но сейчас же повернула назад, пискнула и исчезла.
Тараш посмотрел в ту сторону, откуда она прибежала. Несколько крыс бежали прямо на него. Из угла донесся жалобный писк и шуршанье, какое издают сухие стебли, когда по ним проносится ноябрьский ветер, холодный и пронзительный.
Долго, долго слушал он этот жуткий шелест сухих стеблей. Потом донеслось шипенье, с каким гусак напускается на детей, когда они трогают гусят.
Страх рождался в этой наполненной звуками тишине, и Тараш слышал, как отдавалось в ушах биение его сердца.
Что-то тихо, очень тихо зашуршало. Был ли то всплеск воды или шорох стеблей, он не мог понять. И вдруг увидел: в потоке лунных лучей, струившихся через окно, к его лежанке скользила огромная змея.
Она ползла к нему, высоко подняв неподвижно вытянутую голову, и шипела, как пронизывающий ноябрьский ветер в сухой кукурузной листве.
Тараш приподнял голову. Ему почудилось, что пасть змеи раскрыта, и было похоже, что она ехидно смеется.
Спокойно, плавно приближалась змея. Тихое шипенье, холодное, бросающее в дрожь, предшествовало этому затейливо расписанному созданию.
Воцарилась тишина. Тарашу послышалось, будто из дымовой трубы сыплется копоть. Он лежал, не шевелясь, и чувствовал, как съежилось и уменьшилось его тело, закутанное в овчину. Запах змеи, чем-то напоминающий запах крысы, доносился до него.
Тараш полез рукой в карман архалука и бесшумно оттянул предохранитель браунинга. Но подумал: «Револьвер не поможет!» Тщетно стал искать спички.
Потом вынул руку из кармана. И лежал так, бесстрастно и безучастно. Видел: прямо на него двигается пресмыкающееся. И ничего уже не может помочь ему в окружающем его мраке.
Уже не было слышно ни свиста, ни шелеста, никакого звука.
И еще большим ужасом сковало его бесшумно, плавно, волнообразно двигавшееся тело.
«Так, на цыпочках, бесшумно подкрадывается, должно быть, и смерть», — подумал он. И в эту же жуткую минуту мысль его перенеслась к Тамар.
«Видно, так суждено: и встреча с Тамар, и потеря креста…»
И от сознания, что на смерть послала его возлюбленная, ему стало легче.
Холодный пот выступил на теле. Он стал утешать себя тем, что по воле Тамар удостоится наконец той смерти, о которой так часто мечтал в своей полной тревог молодости.
Вспомнил одинокую мать, оставшуюся в Окуми, несчастного отца. Предстал перед глазами Эрамхут, бледный как привидение.
Осмотрелся. Змеи не было видно.
Сообразив, что она, вероятно, уже заползла в его постель, он затрясся от ужаса.
Знал понаслышке, что змея избегает овчины. И, как мог, плотнее завернулся в кожух. Дрожал в ожидании холодного скользкого прикосновения.
Слух его уловил отдаленный плеск. Понял: то струилась вода под половицами мельницы.
Снова послышалось тихое шипенье и свист, но не на постели, а под ней…
Тогда, осмелев, он заглянул вниз и увидел, как змея, просунув голову в горшок, лакает оставшееся на дне молоко.
ВОРОЖЕЙ
Арзакан сидел в ресторане «Одиши».
Смеркалось. Электрические лампочки тускло мерцали. В полумраке Арзакан с трудом различал лица сидевших за столами. Звон стаканов и тихая беседа нарушали тишину. Слышна была грузинская, мегрельская, абхазская, сванская речь.
Оттуда, где говорили на сванском языке, доносился громкий гортанпый говор. Какой-то долговязый верзила раскатисто смеялся, и этот хохот выражал такую шумную радость, что невольно раздражал пригорюнившегося Арзакана.