Николай Батурин - Король Королевской избушки
Пора! Зверь повернул голову и неподвижно уставился, раздувая ноздри, на его укрытие. Пораженный пулей, он затряс головой, будто отгоняя рой комаров, и охотник выстрелил еще три раза. Короткий пронзительный рев, сопровождавший падение медведя, и двухголосый ликующий лай собак. Он хотел крикнуть собакам об осторожности, но опоздал — Рыжая запрыгнула в снежный кратер, вытоптанный медведем, и тут же вылетела оттуда от мощного удара медвежьей лапы. Это был последний номер экс-силача, давно известный, но тем более поразительный — ведь выполнен он был, считай, после смерти. Медведь опрокинулся на дно кратера и стал вдруг еще более тощим и невзрачным; теперь он не возбуждал ничьего внимания, не говоря уже о восхищении.
Он видел, как рыжая собака упала на спину в снег, как беспомощно сучила лапами, чтобы встать. Наконец она привстала на передние лапы, но задняя часть туловища как-то обмякла, и стало заметно, как прогнулась у нее спина; тихонько скуля, она пыталась помахать хвостом спешащей к ней Черной, но хвост не слушался ее. Черная лизнула несколько раз морду Рыжей, отчего та завалилась набок, и Черная бросилась на медведя.
Поняв, что произошло с Рыжей, он почувствовал, как что-то оборвалось в нем. Скорее машинально он снова поднял тозку и, не выходя из-за елки, выстрелил в ее застывший в ожидании серо-зеленый глаз. С рыжей собакой на руках, с поникшей черной, плетущейся сзади, шел он по своим следам обратно, почти сломленный. Добравшись до избушки, положил Рыжую у печки и все так же машинально развел огонь. Он отогнал Черную, которая, прижав уши, преданно зализывала простреленный глаз Рыжей, и кинул ей в угол мороженой рыбы, но та, не обратив на нее внимания, поползла обратно к Рыжей. А когда охотник оттянул ее за шкирку в сторону, зарычала на него первый раз в жизни, и несомненно, она выражала свое презрение к нему.
— Ну конечно, — отпустил он собаку. — Ты думаешь, для меня это было просто. Так же просто, как вот тебе сейчас — оскалить зубы и так скверно сказать мне… А ты ведь долго была моя собака — кому же, как не тебе, знать меня в этом мире лучше всех? А ты думаешь, я — тот?.. Нет, я не тот и тем никогда не стану, хотя будут еще такие дни у меня, когда жизнь возвышается до самой смерти, дни, кажущиеся сверхнесправедливыми, потому что жалость всегда выглядит несправедливой, все равно что лесных птиц кормить не каждый день.
Он говорил это собаке, но ее всегда такие чуткие к его голосу уши были точно листья с дерева глухоты — недвижны, прижаты к голове. Собаку бил нервный озноб, глаза выкатились, язык краснел, как сорванный с раны кровавый тампон, — ведь не должно же быть таких ран, которых нельзя зализать любовью и преданностью! Что-то жуткое, отчаянное было во всем этом даже для него, немало повидавшего на своем веку. Но отчаянье — это слишком большая роскошь, и он, живя наедине со своим одиночеством, не мог ее себе позволить. Отчаяться хотя бы однажды — значило разом разрушить то просторное, высокое, переполненное светом здание с воздушными колоннами, которое он выстроил тяжким трудом своих грез наяву. Надо было чем-то заняться, чтобы, уйдя в работу с головой, освободиться от мучивших его раздумий. Один, без собаки, отправился он назад, на пойму. Там снял с медведя шкуру, хотя она была редкая и плешивая, но для обивки двери годилась. Затем навернул сырую шкуру на березовый кол и вернулся в избушку; заготовил дрова, прибрал в сенях и ушел в сарай обстругивать сухие еловые планки, заготовленные для каркаса байдарки. За работой не слышал ни гула далеких стремнин, ни тихих неспешных токов внутри себя, уносивших его все дальше, вперед. Его руки двигались ровно и спокойно, рубанок вонзался в дерево на должную глубину, из-под ножа мерно текла тонкая пахучая стружка. Казалось, руки выполняли не только данную им работу, но и его самого готовы были удержать, не дать упасть настроению, но на самом деле — как слабы они были сегодня! Сгустившиеся сумерки застали его неожиданно, и он выпустил инструмент из рук; бурчанье в пустом животе напомнило ему, что сегодня, в этот злосчастный день, он ничего еще не ел. Выйдя на двор, постоял немного, не желая никуда идти, посмотрел наверх, будто там можно было найти какой-то выход, — звезды сыпали на него свою пыль, и молодой месяц был как запятая в череде человеческих страданий… «Все же запятая, а не точка», — подумалось ему. Жалость и грусть, сопровождавшие его от сарая до избушки, сменились сумрачной нежностью, когда он вышел с рыжей собакой на руках, оставив Черную в избушке, где та скребла дверь и протяжно, по-волчьи выла. Он отнес Рыжую в глинистую яму за избушкой. Его собачьи унты давно износились, но он не стал снимать шкуру со своего друга, хотя это и считалось в тайге предрассудком. Нагреб в яму снега и утрамбовал ногами.
— Из снега тебе легче будет выбраться, чем из земли, когда соболь Ночи пробежит над тобой, — сказал он, и звук и смысл его слов слились в достойную эпитафию доброй охотничьей лайке. Для его друга эти элегические чувства были, правда, несколько антропоморфны, ведь речь шла все-таки лишь о собаке.
Он воткнул лопату в снег и шагнул из ночной тьмы в пахнущий керосином полумрак избушки. Черная лежала в углу, не поднимая головы, будто охотник похоронил там, в мерзлой глине, часть ее самой. Из-под черного бока собаки сверкала красноватыми бликами сушеная рыба, будто опавшие листья серебристого тополя при свете заката; к рыбе собака так и не притронулась — столь глубока была ее скорбь.
— Да, тебе ни к чему рядиться в траурные одежды, — сказал он Черной. — Понурилась там, в темном углу, и стараешься и мою ночь сделать черной, как крышка гроба… Эх, нет у тебя веселости Рыжей, одно только черное презрение.
Он махнул на собаку рукой и, не раздеваясь, не сняв шапки, которая походила на соболя, спрыгнувшего в ярости ему на голову, сел за некрашеный струганый стол. Наверно, это была попытка соблюсти равновесие — на столе появилась бутылка спирта, будто белый огонь, выросший из снега. Собака слушать его не желала, и он разговаривал сам с собой и еще с кем-то, кого здесь не было, но кто его терпеливо слушал, слушал и понимал благодаря своему особому положению в безмерном мире, совмещающем и Даль, и Высь, и Глубь. Он заглотнул из кружки «нежнейшего снежного света», как он называл студеный спирт цвета известковой речной воды. Оставшиеся капли стряхнул на пол, где они засверкали, точно драгоценные камни, — разбить вдребезги корону — это, верно, и был королевский жест.
Аппетита у него не было, только томила жажда.
— Пей и не думай ни о чем, не думай ни о чем и пей… Ты должен так накачаться, чтобы не осталось места для этой жалости. — Как неожиданная мысль о череп, звякнула пустая кружка об стол. — Ладно… У них тоже не все в порядке, кто никогда не напивался, — говорил он своему немому, но отнюдь не безучастному собеседнику. После очередного глотка вяло откусил соленого тайменя и бросил рыбу Черной. — Выходи из своего угла, ты, непреклонная. Выходи и возьми обратно то, что ты мне давеча прорычала… Сердечной болью не гордятся, это не хвост, чтобы им размахивать издалека, дескать, смотрите, здесь у меня болит. — Он еще раз поднял и уронил кружку, голос его слегка загустел. — Ну, траурная твоя морда, иди сюда, потолкуем про этот день, разберемся трезво в этом свалившемся на нас несчастье. Хотя, скажу я тебе, трезво ничего не получится… — Черная подняла сначала одно, а затем и другое ухо. Охотник этого не видел, его голова покоилась на пустом столе, на скрещенных руках, как забытая в поле дыня. Когда он поднял голову, чтобы взять кружку, собака уже сидела неподвижно против него, точно обгорелый пень. Пес пристально смотрел на него: наверно, глаза охотника были слишком широко раскрыты, хотя они должны быть узкие, как прорезь на прицеле, а были как зеленые пруды, которые, того гляди, выйдут из берегов… Плачущий охотник выглядел бы смешно, если бы его плач не напоминал литье дроби, над чем было опасно смеяться. Его глаза были затуманены спиртом, который действовал так, будто он надышался огня.
— Ну что, опомнилась? — сказал он, заметив перед собой Черную. — Видать, ты свой выбор уже сделала: пусть смерть остается мертвым, а жизнь — живым… Ну если так взять, то ты по-своему, по-собачьи, конечно, права. И все же…
И тут ему вспомнился один щенок причудливой масти, будто обсыпанный розовой цветочной пыльцой. Он вдруг возник перед его глазами среди росистой, пестреющей цветами травы, на своих длинных, точно стебли вейника, лапах. Это было простодушное, доброе существо, еще только обещавшее стать собакой. Щенок любил лаять на речные перекаты больше, чем на белок. Видя, как он ест с кукшами из одной плошки, уже тогда старый эвенк качал головой — вряд ли из этого козлоногого получится настоящая лайка, нет в нем врожденной злости. Старый эвенк, вырастивший на своем веку немало хороших собак, не мог ошибиться. Из розоватого щенка получилась конопляно-рыжая лайка, не очень хорошая, но все же неплохая охотничья собака, не то что какой-нибудь отъявленный душегуб, готовый на все ради одной охоты. Ее веселый нрав и сверхчувствительность усугублялись с годами, а простодушие незаметно превращалось в хитрость. Словом, она так и оставалась щенком, быстро отходила, любила глядеть на облака, становилась беспокойной, когда улетали птицы, и по-прежнему с большим удовольствием лаяла на стремнины.

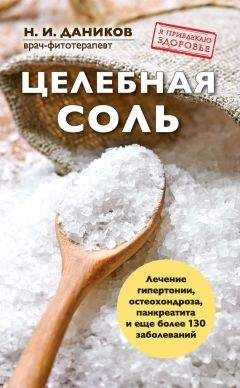
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)

