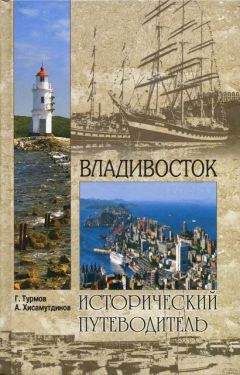Виктор Конецкий - Том 5. Вчерашние заботы
И Фомич все точно прикинул — сорок пять миль до маяка. Прибарахлились ледобои. И теперь пьют и рыбкой закусывают. И бесплатность этой рыбки мучает Фомича и томит. Вся вообще рыба в Мировом океане волнует его. Ведь вот за бортом — бери голыми руками — бесплатная рыба! Все бесплатное всю жизнь томит Фомича. И особенно мучает его рыба. Еще он думает, что если бы изобрести средство от бритья, то есть распространения растительности на мужском лице, то мужскому организму на этом можно было бы экономить полезные вещества, а так он каждый день псу под хвост сбривает и углеводы, и жиры, и роговое вещество…
Самый тяжелый за весь рейд лед — на подходах к Колыме: спускались к югу вдоль восточной оконечности острова Четырехстолбовой.
Уже ночь, уже солнце заходит, и мрак довольно густой.
Слепят прожектора, установленные на кормах на случай тумана. Их часто забывают выключить и в ясную погоду.
Холодно, а двери рубки открыты настежь. На одном борту Саныч, на другом я. Каждую минуту орем рулевому:
— Вправо больше не ходить! — это я.
Саныч:
— Право! Право! Викторыч, слева кирпич торчит!
Я:
— Чуть право, Андрей! Чуть-чуть! Саныч, у меня тут такой кирпич, что…
Саныч рулевому:
— Полборта лево!
Я одновременно:.
— Полборта право!
И так шесть часов подряд.
С несчастного Андрея Рублева — пот в три ручья. Он в ковбойке, хотя по рубке из открытых дверей сквозит зверски.
Я как-то спросил Андрея, о чем он думает в такие вахты.
— А я торговок вспоминаю. Которые на морозе семечки продают. На рынке. Очень удивительные бабы. Весь день без движения стоят и семечки продают. А румяные! А веселые!.. И сами свои семечки и трескают!
Значит, Андрей, несмотря на огромное напряжение и великолепную работу на руле (иногда без приказа своим чутьем спасает судно от опасного удара), еще размышляет о бабах с семечками на архангельском базаре!
Подобный же вопрос задал кому-то из механиков или мотористов. Ведь мы с Санычем не только рулевого загоняем в пот, но и машину. Бывает, одновременно хватаемся за телеграф: он на своем крыле дает «стоп» или «назад», а я «полный вперед». Дело идет на секунды, и случаются моменты, когда перекричать друг другу смысл своего решения нет времени.
Впереди вынырнула в канале льдина. Я решаю прибавить ход, чтобы увеличить поворотную силу руля и отвернуть, а Саныч дает «стоп», чтобы отработать «задним», ибо считает, что отвернуть не успеем. И при этом надо еще предупредить позади идущее судно об изменении своего хода, ибо и оно не велосипед…
Какие уж здесь нежности и ласковости с дизелем, когда дело идет о «быть или не быть»? И в машине, как и на мостике, ад кромешный.
Так вот, кто-то из механиков ответил на мой вопрос, что в напряженные вахты мечтает, как бросит плавать и устроится шофером на междугородные поездки. И всегда вокруг автомобиля будет земля, деревья, трава, поля, леса… Оказывается, тоже успевают мечтать!
Ну, а о чем думает капитан? По своему опыту судя, ни о чем. Даже о холоде и ледовых сталактитах под носом не думаешь. И вообще, тебя как бы нет на свете в обычном смысле. Ты весь в окружающей обстановке, и за собой самим тоже наблюдаешь со стороны, как за включенным в эту обстановку обстоятельством.
Кроме сигналов, которые дает глаз в мозг: «Право-лево-стоп-назад-вперед», откуда-то поступают еще такие: «Устал! — Пятый час на посту! — Не забывай, что устал! — Осторожность! — Проси ледокол сбавить ход! Черт с ней, с этой „Перовской“, пусть налезает на хвост!»
И все эти самокоманды проходят «на автомате», без членораздельности, которую сейчас вынужден наносить на бумагу в виде отдельных слов и предложений.
И вот выходим в полынью. Сразу чувствуешь и холод, и себя уже не извне, а из собственного нутра. И прислушиваешься к разному интересному, и вспоминаешь что-нибудь…
Почему-то положили в дрейф, хотя лед на востоке вроде бы разреженный. Арнольд Тимофеевич (в адрес ледоколов и вообще мирового прогресса):
— Вот на железных дорогах в тридцать девятом за простой вагонов сразу и без всяких судов — за решетку, а эти пошлые атомы что делают?
Рублев (копируя интонации старпома и очень серьезно):
— Арнольд Тимофеевич, а это факт, что финны в тридцать девятом по такому же пошлому льду, как мы сейчас прошли, на лыжах подбирались к Архангельску и вырезали ятаганами наши караулы?
Старпом, который, как я говорил, вовсе не чувствует не только юмора, но часто и злобной иронии в свой адрес, не сечет:
— Смешно слышать от старшего рулевого! Финляндско-советский вооруженный конфликт не захватил Архангельск. Я вам приводил подобные факты, но вовсе не такие, на материале Кронштадта. И нечего вам здесь околачиваться. Следуйте перебирать картофель!
Картошка, гниющая в хранилище, — вторая после взятия радиопеленгов кровная забота старпома. Сегодня прибавилась третья: график стояночных вахт в Певеке. Он корпит над списком очередности вахтенных у трапа с тщательностью и въедливостью Пиковой дамы, раскладывающей пасьянс в ожидании прибытия Германна, ибо панически боится Певека и длительной стоянки вплотную к берегу, то есть контакта наших молодцов с местным населением и винно-водочными изделиями.
Фома Фомич мучительную работу старпома по раскладыванию пасьянса стояночных вахт официально одобряет, но, в силу большого опыта, отлично понимает, что все эти графики при столкновении с чукотской жизнью полетят к якутской прабабушке и превратятся в кроссворд, который не распутают даже французские энциклопедисты класса Дидро.
Картофельным же вопросом старпом Фому Фомича все-таки умудрился довести до реакции на быстрых нейтронах. Ведь два часа ходовую вахту Арнольд Тимофеевич стоит со мной и два с Фомичом. И вот, когда в тяжеленном льду Фомич швейным челноком пронзает рулевую будку взад-вперед, с крыла на крыло, а ему под руку, и под ноги, и под все другие места старпом пихает вопрос переборки картофеля, приговаривая еще: «Разве это лед?.. Не лед это, а перина… Вот в тридцать девятом мы шли, так это был лед!..» — то старый его друг-покровитель, регулярно пропихивающий фотографию Степана Разина на Доску почета, выдает такую реакцию, что даже белые медведи вздрагивают за дальними ропаками.
Арнольд Тимофеевич, однако, продолжает бормотать: «В тридцать седьмом профессор Визе предсказал легкую арктическую навигацию и статью напечатал в „Правде“: „Арктика-кухня погоды“ называлась. Ну, наприглашали сюда иностранцев, а кухня-то раньше всех сроков возьми да замерзни, и весь иностранный флот замерз, зазимовал — валютой им плати! Ну, Визе и посадили».
Я говорю, что профессора Визе никогда не сажали, и доказываю это. Такие вещи Арнольд Тимофеевич умеет не слышать. То есть он слышит, но продолжает так, будто в чепухе его не уличили: «Да, и „Урицкий“ замерз, на котором я в тридцать девятом плавал. На нем три тетки зимовали. За ними ухажеры с ножами гонялись…»
Люди поколения старпома редко вспоминают тридцать девятый год хотя бы потому, что война отбила память на такое далекое геройство. Где и как он воевал? Очень любит жуткие и бандитские истории про ножи и убийства, и про расстрелы, и про волевую жестокую строгость: «В войну одного нашего командира и старпома расстреляли — на десять минут в точку рандеву опоздали. На наших глазах шлепнули — перед строем».
Такие рассказы как бы приобщают и его к миру сильных и беспощадных. И крепко ему врубилось, что уж когда свои по своим перед строем стреляют, то никакого нюанса, что промахнутся, нет…
Особенно отвратно видеть и слышать Спиро Хетовича, когда на карте вокруг имена Русанова и Лонга, Толля и Норденшельда; когда вокруг полно могил самых лучших из лучших, самых сильных и решительных.
Сегодня я груб: дважды раздолбал старпома за пустые разговоры на мостике и несоблюдение дистанции. Он груб с безответными подчиненными, а я наплевал на его седины.
15.08.16.30.
После вахты слушаю Пекин. Поют песни. Одна называется: «Я люблю свой танк!» В песне говорится о том, как любовно китайские танкисты ухаживают за стальными боевыми машинами. Другая — «Мы — прекрасные связисты!». В ней о том, как на необъятных просторах родины повсюду раздаются звонки красных связистов. И очень красивый женский голос поет.
И опять думаю банально и монотонно, как в мире все связано. «Полосатый рейс» в КНР объявлен антикитайской провокацией, пародией на теорию великого кормчего о «бумажных тиграх». И узнал я об этом из статьи Константина Симонова, который сейчас плывет в двух кабельтовых от меня…
На караване событие: поэт собирается на экскурсию.
«„Ермак“, я „Комилес“! Как слышите?»
«Отлично».
«Товарищ Симонов согласен посетить ваше судно».
«Очень рады! Можем послать вертолет».
«Нет, вертолет товарищ Симонов не хотел бы. Он считает, летчики и так устают».
«Ясно. Вот отставшие выйдут в полынью, ляжем в дрейф. Катер пришлем».