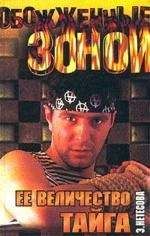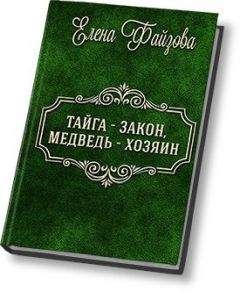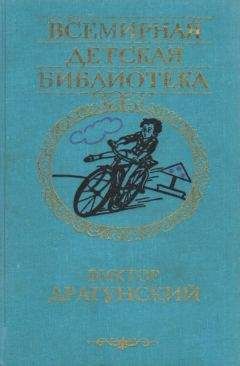Виктор Попов - Закон-тайга
— Как это? — не понял Венька.
— Вот так. Безвольный человек — как флюгер, как тряпка: где надо сказать — промолчит, где надо рискнуть — спрячется.
— Есть у нас в классе такие.
— Оно и ты от них пока недалеко ушел. Жизнь, сын, дается один раз…
— …и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно… и т. д. Это я читал.
— Плохо, выходит, читал. Ты еще разок прочитай да осмысли.
— Зачем? — пожал плечами Венька. — Мне это на комсомольском собрании скажут.
— Что скажут — ты не поймешь. А вот если почитаешь да подумаешь… Мне, сын, сейчас ох как несладко, а я держусь. Кричать не кричу, потому что некому, а про себя знаю: случись что со мной, мне жалеть не о чем. Всю жизнь делал я свое дело, бил и бил в одну точку. Плохо, когда оглянешься назад, а за тобой — пустота. И ничегошеньки ты не сделал, чтобы эту пустоту собой заполнить. В общем, сын, хоть ты и взрослый индивид, куришь уже и водочкой балуешься, но пока ничего ты еще не постиг.
Кое-что из сказанного отец говорил больше для себя, чем для Веньки. Ученый, с именем не то чтобы мировым, но достаточно известным, он тогда слыл генетиком, и его не замечали многие люди, совсем еще недавно ходившие в приятелях. Венька краем уха слышал, что у отца неприятности, но не подозревал, насколько они велики. Да и подозревать не мог, потому что у подростка и у человека зрелого впечатления о неприятностях по масштабам куда как разнятся. Однако по тону отца, по убежденности, по сосредоточенной сдержанности понял, что дела плохи и, подавляя желание прижаться к отцу, положил свою руку на его и по-мужски сказал:
— Тебе очень плохо, папа? Только честно.
— Переживем. Такую войну пережили… Обидно только, что силы не туда, куда надо, прикладываются. От любимого дела отстранен. — Отец помолчал, думая о чем-то далеком — взгляд его вдруг стал отрешенным, потом сказал ни с того ни с сего: — Знаешь, сын, что самое важное для человека? Смотреть на себя не изнутри, а снаружи. Ох и трудная же это выучка — смотреть на себя чужими глазами. Зато полезная. Чаще всего мы такому научаемся, когда под нами стул зашатается…
Короткий этот разговор повлиял на Веньку решительно. Его очень задело небрежное замечание отца о том, что он, Венька, недалеко ушел от тех, кого, сам не уважал и даже презирал. Очень ясно он вдруг почувствовал, что уже не мальчишка и дальше жить мелкими непостоянными увлечениями неинтересно. Не то, что в нем рано созрел взрослый или прорезались какие-то дремавшие прежде качества. Он по-прежнему гонял во дворе футбол, бегал на лыжах, играл во входивший тогда в моду настольный теннис. Своему другу Леньке Бандурину он написал:
Мой друг!
Давно уже приняться
Пора с тобой нам за дела.
Довольно поздно увлекаться
Эмаром, Купером, Дюма.
Потом они долго спорили о смысле жизни и в конце концов решили воспитывать в себе волю. Так началось то, что не понявшая их вначале Варвара Павловна, классная руководительница, назвала игрой в отличники. Для Леньки это и впрямь оказалось игрой: два месяца он сидел за учебниками старательно, а потом уныло сказал: «Надоело. Давай отложим до восьмого класса, а?». «Флюгер», — насмешливо ответил Венька, который к тому времени уже вошел во вкус не столько учебы, сколько положения отличника. Причем отличника не узаконенного, к которому все привыкли и не представляют его иным. О таком говорят вроде как по обязанности. О Веньке же Варвара Павловна говорила сначала с веселым удивлением, потом — с уважением и наконец — с каким-то тихим восторгом. Это нравилось Веньке. Тщеславие? Может быть. Но, если говорить по совести, кто возьмется во всех случаях провести границу между хулимым тщеславием и признаваемыми гордостью и самолюбием? И, если уж на то, пошло, какое из этих чувств наиболее соревновательно?
Долго, да и бесцельно писать о всяческих ухищрениях, которыми воспитывался Вениамин Петрович, но направление самовоспитания он сформулировал для себя предельно четко: «Поставив цель, надо идти к ней, не отвлекаясь. Человек не должен оставлять на земле долгов». Этому правилу он следовал неукоснительно. Оно позволило ему сравнительно быстро справиться с собой во время разрыва с Аллой, оно же принесло Вениамину Петровичу славу «сухаря». Только так теперь пренебрежительно называли его одинокие женщины, которые в свое время внезапно окружили его откровенными заботами и вниманием. Он знал, что его так называют, и ничего не имел против. Равнодушие было даже в какой-то степени врачующим средством, своего рода психотерапией.
Глава XVI
Как и во всякой женщине, в Эльке сидел бес. Был этот бес ее собственным: недрачливым, жизнерадостным, любопытным и, конечно же, лукавым. И вот этот лукавый бес давно уже заприметил, что шеф, если, употреблять спортивный язык, потерял форму. То, что еще вчера было предположением, после нынешнего случая стало уверенностью. И лукавый, действуя заодно с любопытным, вложил в голос Эльки столько простодушия, столько невинности, что и сам было удивился искренности вопроса:
— Вениамин Петрович, почему вы сегодня какой-то не такой? Странный какой-то…
«Так нельзя, — сказал бес любопытный, — в таких случаях с плеча не рубят. И вообще это называется провокацией». «Можно, — ответил лукавый. — Если обстоит так, как мы решили, то все можно».
Видимо, обстояло именно так, потому что Вениамин Петрович смутился и пробурчал что-то совершенно невразумительное. При этом он даже не взглянул на Эльку, и это дало ей повод переспросить, уже полуутверждая:
— А все-таки? Вот и сейчас. Я, конечно, понимаю… ну, что случилось… Но нельзя же так. Все, слава богу, обошлось. Теперь мы битые. А за одного битого двух небитых дают. Вы, наверное, на Матвея обиделись?
— Только этого мне недоставало.
Помолчали. Элька, которой речной холодок чуть ознобливал спину, подвинулась к костру, помешала ложкой в котелке, от которого шел негустой еще запах распаренной каши. Вениамин Петрович заботливо спросил:
— Вы не озябли? — И тут же непонятно почему сказал: — Ничего… Через сутки наша аргонавтика кончается. По моим расчетам, завтра к вечеру — Кайтанар. Если, конечно, все благополучно.
— Жалко, — сказала Элька. — Я бы еще плыла. Только не так.
— А как?
— Чтобы совсем-совсем свободно. Плыть и ни о чем не думать. Чтобы ни забот никаких не было, ни переживаний, ну ничего-ничего. Берега. Река. И еще — небо. Я когда закрою глаза, мне кажется, что небо лежит на горах и за этими горами пустота. Черная, глубокая пропасть, куда девается все: и река, и горы, и день, который прошел, тоже скатывается в пропасть.
— Это верно, — серьезно сказал Вениамин Петрович. — Каждый день скатывается в пропасть.
— Да не так, — с досадой сказала Элька. — Совсем не так он скатывается. Не то что прошел — и нету. Он спускается медленно-медленно. И укладывается рядом с другими. На что-то теплое и мягкое. И если захочется, его можно достать. Можно сказать: «Вернись, день!» И он вернется. И сегодня тебе будет так же хорошо, как было вчера, позавчера… всегда, всегда будет хорошо.
— Если бы…
— Ой, какой же вы, прямо… Вы все понимаете буквально. Нельзя быть таким рационалистом.
— Выходит, можно.
— Вы знаете, на кого похожи? На двустворчатую раковину. Нет, даже не на раковину. Та хоть когда-то приоткрывается. А вы — как орех: всегда в скорлупе. Вы не такой, понимаете, не такой. Все вы на себя напускаете. Я вижу. Я же вижу…
— Чего вы добиваетесь? — тихо спросил Вениамин Петрович. — К чему вообще весь этот разговор?
— Я не знаю, — так же тихо ответила Элька. — Просто само собой получилось. Вы только не обижайтесь на меня.
— Это за орех-то? Зачем же обижаться на откровенность? К тому же орех — это не так плохо.
— Хорошего тоже мало.
— Понимаете, Эльвира Федоровна, я на эту тему никогда ни с кем не разговаривал. Даже с женой… Может быть, это одна из причин того, что мы разошлись…
Но я просто никогда не ощущал необходимости никому объяснять себя. Я есть такой, какой есть. Таким меня и принимайте… Или не принимайте.
— Так имеют право поступать только очень большие люди. Им все прощается.
— Так надо поступать всем. Люди должны пожинать плоды твоего труда, при этом они не должны видеть твоего пота. Пот — только для тебя. Людям — радость твоей работы. Радость отдачи, если хотите. Издержки не в счет.
— Но ведь нельзя все отдавать, надо что-то и себе оставить.
— Себе? Когда Пушкин написал «Бориса Годунова», он воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Вот это и есть — себе. Себе-то и остается самое дорогое: восторг творчества. Когда что-то сделал — и чувствуешь, понимаешь, что получилось здорово.
— Не все — творцы.