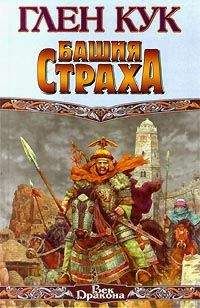Виктор Лесков - Под крылом - океан.
— Этого нельзя допустить!
— Понимаю. А ты меня поймешь? Я ратую за принципиальность в оценке малейших нарушений правил безопасности полетов, а сейчас пойду выгораживать Чечевикина? Что мне люди скажут?
Скверно у меня стало на душе, как бывает, когда теряешь что-то невозвратно дорогое. Вот же как иной раз складывается: все видят, что нелепость творится, и вместе с тем поступают, руководствуясь принципом справедливости. И ничего невозможно изменить.
— Если я пройду мимо нарушения, то узаконю его в масштабе полка.
Действительно, командир прав. Прости Чечевикину — и на других тогда управы не найдешь. Не каждый скажет, но каждый подумает, а этим живет душа человека.
— В моих правах диапазон наказаний от выговора до отстранения от летной работы. Я объявлю ему выговор.
— Значит, ничего нельзя изменить! — встал я, прерывая неловкость этого разговора.
— Не в моей компетенции, — встал и Иван Антонович, переходя на официальный тон.
Я шел от Глушко и думал о Кукушкино. Черт бы его побрал, гений же, понимаете — гений! Кто еще ловчее мог расставлять так петли, кто мог еще так повязать всех одним арканом? Ну неужели в жизни не нашлось бы применения его таланту? Ну, пошел бы он, к примеру, в Шерлоки Холмсы или в институт семьи и брака… Все наши внутренние распри, мне кажется, только из-за одного: из-за неумения или невозможности заранее определиться в жизни по призванию…
Чем я мог обрадовать Юру? Нет, не стал я его расстраивать, пока не кончилась предварительная подготовка. Но когда мы шли домой, я не мог держать в неведении своего друга. Казалось, заботы дня остались позади, хотя всегда эти заботы с нами. Солнце уже зашло, но заря еще переливалась желтовато-лимонным шелком. Мы шли рядом.
— В классе тебе не стал говорить, на тебя готовят персональное дело.
Я ожидал, что сейчас Юра опешит, что для него это известие будет громом среди ясного неба, но он ответил спокойно:
— Знаю.
— Откуда.
— Меня Василий Иванович уже предупредил. Велел писать объяснительную.
— А ты?
— Я сказал, что поеду в госпиталь.
Теперь пришла очередь тормозить шаг мне.
— Ты это брось!
— Нет! Все! Хватит!
Если у Юры какое-то намерение становилось на защелку, я знал, что это такое. Говорить с ним дальше — только безуспешно накалять страсти. Но на этот раз я не мог не сказать ему со всей четкостью:
— Ты в госпиталь не поедешь! — сам, однако, сомневаясь, что так оно действительно и будет.
Мне выпали на остальную дорогу только тягостные размышления. Как это ни парадоксально, а нет ничего проще разделаться с честным человеком. Проходимец сразу ориентируется в направлении наименьшего сопротивления и вырабатывает бесконфликтное поведение. Честный человек переживает все по-иному: он не гнется, а ломается. Для него несправедливость — крушение всех жизненных опор. Он же думает не об одном случае, а в целом о своей жизни. О жизни, в которой не выкраивал себе выгод, не хитрил, а знал свое дело и относился к нему со всей душой. И вдруг за все доброе удар наотмашь? Да, честный человек никогда не умеет защищаться, он не натренирован ни в защите, ни в нападении. Он сразу теряется и начинает бросаться на всех подряд, не разбирая ни друзей, ни врагов. Для него все идут одной мастью.
Кто только не сдавал зачеты этому Шишкалину! И сходило отлично, пока не нашелся начальник поставить факт, что называется, торчком. Подсидка? Чистейшая. Непорядочно? В высшей степени. Но не это обидно, что Юра честно сдал зачет, а его обвинили в шулерстве. Это еще полбеды. Главное другое: в интересах мышиной возни приторачивается не что-нибудь, а мнение целого коллектива. Да какого — коммунистов! Вот это размах! И в этой ситуации не стоит обольщаться абстрактными идеями справедливости. Все делают люди!
12
Потом на земле будут говорить, что Полынцев рассказал наизусть всю предполетную подготовку за второго штурмана. Впрочем, Полынцев мог бы рассказать предполетную и за радиста или кормового стрелка. Он относился к тому типу людей, которые стеснялись худших, чем у подчиненного, знаний. Если не знаешь сам, как спрашивать с других?
— Мамаев! Проверить сброс крышки люка!
Не стал Полынцев говорить наугад о возможных причинах задержки, а начал с первого пункта инструкции, как с первой строки песни: только по порядку все действия перед катапультированием! Видит сам, крышка давно сброшена. Не дожидаясь, пока раскачается с ответом Мамаев, повел дальше:
— Положение кресла?
— По полету.
— Предохранительная скоба?
Ответа Мамаева Полынцев не услышал: голос второго штурмана перекрылся глухим, лопающимся хлопком, словно рядом, в шуме потока, кто-то возле кресла командира выстрелил из ружья. Полынцев обернулся в смятении: что там еще случилось? Понял: сработала катапульта второго пилота. Пошел лейтенант, мягкого ему приземления. Если не напугается, многое придется еще увидеть на своем веку. Летать ему долго. А здесь после него остались в свежей смазке направляющие катапульты да откинутый к приборной доске штурвал.
Как соблазнительно сейчас вырваться из этого пекла и, раскачиваясь по длинной амплитуде парашютных строп, оказаться в глухой тиши высоты. Мир велик и лучезарен. Он перед тобой. Земля готова принять тебя. Еще мгновение — и ты почувствуешь под ногами ее надежную незыблемую твердь. Ах, какое счастье эта земля!
Кто бы сейчас видел Полынцева! Все знали его человеком невозмутимой выдержки. Скроен он был основательно, и сил, чувствовалось, заложено в нем на долгую жизнь. А выделялся из тысяч лиц глазами: они у него всегда смеялись! Всегда теплился в них добрый искристый свет. Смотришь на него и видишь: он любит этот мир, эту жизнь и пришел в нее, чтобы всех сделать еще счастливее.
С годами в лице его появилась суровость, и с виду он мог показаться замкнутым человеком, но это только для постороннего, как защитная реакция от случайной жестокости. А по существу он так и остался наивной душой.
Но сейчас лицо его изменилось неузнаваемо. Всего-то прибавилось бледности да в глазах не стало привычной веселости. И совсем другой уже человек, отстраненный от всех в самолете невидимой силой. Может быть, это от волнения: никто лучше командира не знает настоящей опасности.
— Мамаев! Предохранительная скоба!
— Откинута, командир.
Страх и надежда всегда рядом — на стороне жизни. Только лицедеи могут похвалиться, что в минуту опасности они не думают о собственной судьбе. Ложь! Будь на месте Полынцева другой человек, неизвестно, как бы повернулось дело. На карту поставлена собственная жизнь. Он сделал все, что от него требовалось, что мог, наконец. Но он, майор Полынцев Борис Андреевич, военный летчик первого класса, считал себя виновником всей аварийной ситуации. А пока человек способен признавать свою вину — он остается человеком.
Полынцев не успел спросить очередную проверку, его перебил Чечевикин:
— Борис! Этот помазок даже не вывернул предохранительной чеки! — позеленев от ярости, он простирал напряженные руки из передней кабины.
Кабина штурмана находилась впереди и ниже пилотской. Выходило, что штурман летал в ногах у летчиков, в своем вечном полумраке. Это только тот, кто не знает, может считать, что за плексигласовым сходом фюзеляжа — самое светлое место в самолете. Нет, штурман там так обставлен аппаратурой, что хоть днем зажигай свет.
Сейчас Юра в парашюте, и под привязными ремнями усадистый, крепкий мужчина походил на восставшего в темнице раба. Хоть в оковах, но восставшего!
13
Старший лейтенант Мамаев
Я проводил важное политическое мероприятие, организовывал подписку на газеты и журналы. Вы сами знаете, как это проходит. Одному дай «Знамя», другому «Литературную газету», третий требует журнал «Новый мир», а мне сказали четвертое. Наш кавээс, нашу флотскую газету, нашу центрально-обязательную — каждому, а остальное — как хотят! В свете последних указаний я и строил всю свою деятельность. Должен доложить, что поставленную задачу мне удалось выполнить в полном объеме, хотя не все правильно понимали важность кампании и относились к ней без должной ответственности.
В назначенный день и час я должен был сдать все документы и деньги по подписке нашему пропагандисту. По случайному стечению обстоятельств в этот же день на одиннадцать часов утра нам запланировали вылет на дозаправку топливом в воздухе. Кроме того, еще Виктор Дмитриевич обратился с личной просьбой съездить пораньше в автокассу и взять в предварительной билет на сына. Сын у него на выходной должен был приехать из города домой. Ну и значит, чтобы не маялся на обратной дороге. После всестороннего размышления я пришел к выводу, что если сдам пропагандисту подписку в девять утра, то у меня остается два часа зазора и я спокойно на личном автомобиле справлюсь со всеми делами. Таким образом, общественное поручение и наше общее дело не пострадают.