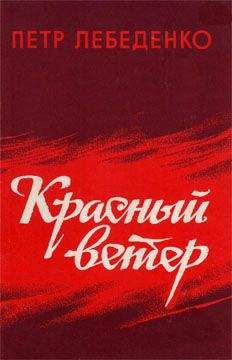Пётр Лебеденко - Льды уходят в океан
Марк вскинул на него злые глаза:
— Она ведь и от тебя ушла… Чего ж не плюешь?
— Ха! — Илья сплюнул под ноги. — Видишь, еще не родилась такая красотка, чтобы сама ушла от Беседина. Понял, Талалие?
— Понял. Ты весь сделан из фальши, Беседин. Тебе не тяжело жить? Я бы не мог так…
Илья усмехнулся.
— Старая песня, Марк Талалин: Беседин — фальшивый, Беседин — рвач, Беседин — такой, Беседин — сякой. А хочешь, я скажу, что тебе мешает увидеть в Беседине настоящего человека?
— Давай.
— Ревность! И я тебе прощаю, Талалин. Потому что я не дурак и знаю, что это за штучка такая, ревность. О-о! Это, брат, такая вещь, что из любого человека сделает зверя. Лютого зверя! Я вот минуту назад смотрел на твою работу и думал: красиво работает Талалин. Художник, каких мало. Поставить бы его рядом со мной, локоть к локтю, и пригласить бы всех докеров, чтоб поглядели. Голову наотрез даю — сказали бы: сказка! Согласен?.. Но тут же подумал: не выйдет!
— Пожалуй, не выйдет, — согласился Марк.
— И знаешь, почему?
— Разные мы с тобой люди, Илья. Два берега у одной реки — не сойдемся.
— Правильно. А река эта — Марина Санина.
— Раньше ты говорил другое, — напомнил Марк. — Раньше ты говорил, что я выслуживаюсь, хочу занять твой бригадирский трон. Забыл?
— Не забыл. Связываю одно с другим. Унизить хочешь в ее глазах: вот, мол, погляди, на кого променяла.
— А я-то думал, что ты умнее, Беседин. Знал, конечно: тяжелый человек, мусора много, но что дурак — не думал.
Марк подошел к люку, легко подтянулся на руках и выбрался на палубу. По сходням на берег спускались Димка Баклан и Костя Байкин. Костя, взглянув на Марка, сказал:
— Чего взъерошенный такой? Опять с Ильей поцапались?
— С ним нельзя не цапаться, Байкин. Хотя это до черта надоело. То одно, то другое…
Они пришли в столовую, сели за столик. Через дветри минуты появился и Беседин. Димка Баклан, увидев его в дверях, крикнул:
— Есть свободное место, бригадир!
Илья медленно прошел мимо, даже не удостоив их взглядом. Димка заметил:
— Вот тип!
Беседин услышал и резко обернулся:
— Это ты про кого? Кто тип?
— Про тебя, — сказал Димка.
Илья сел, положил на стол руки, сцепил пальцы, тяжело посмотрел на Димку, потом на Байкина.
— Раньше я никогда не слыхал, чтобы вы вот так развязно трепали языками. Раньше я слыхал совсем другое.
— Время меняет людей, говорят философы, — заметил Костя. — Оно обходит стороной только того, кто дальше своего носа ничего не видит.
— Ты-то сам далеко видишь? — угрюмо спросил Беседин.
— С тобой трудно, Илья, — проговорил Костя. — Особенно последнее время. На всех шипишь, всех подозреваешь, что тебе хотят как-то напакостить.
— Кому со мной трудно? Тебе и Талалину?
— Всем!
Это сказал Димка. И в упор досмотрел на Беседина.
— Всем трудно, кроме, может, Харитона. Забыли, когда по-настоящему смеялись. Давишь ты, как пресс…
— Как пресс, — повторил Илья. — Здорово! — Он с минуту помолчал, разглядывая свои руки. И вдруг спросил: — Сколько ты получил за прошлый месяц, Баклан? По сколько вышло на брата?
Димка сказал:
— При чем тут это?
— А при том! Я смотрел ведомости других. Сто, от силы сто двадцать. Даже у крановщиков. А мы — по сто семьдесят! Так вот скажи: когда расписывался за сто семьдесят, тягостно не было? Чего молчишь?
Димка поморщился:
— Молчу потому, что нечего сказать, Илья. Ты не выучил ни одной новой песни. Не человек, а старая пластинка… Начисто заигранная…
Марк услышал, как Беседин хрустнул пальцами. «Сейчас грохнет кулаком по столу, — подумал он, — или уйдет».
Беседин встал.
— Лучше петь старые песни, но свои.
Он все-таки умел держать себя в руках, когда хотел. В такую минуту им можно было даже любоваться: внутреннее волнение, которое он испытывал, проявлялось только в глазах, сразу ставших темными и жесткими.
Губы улыбались, однако за улыбкой скрывалось чуть ли не бешенство. Это угадывалось по тому, как слегка вздрагивали намечающиеся морщинки вдоль носа.
— Ты понял, Баклан? Лучше петь старые песни, но свои! — повторил Илья. — А вы стали петь с чужого голоса. Вот с его голоса! — Он небрежно кивнул в сторону Марка. — Подражаете, как краснозадые павианы.
Он ушел, забыв даже поесть. Глядя ему вслед, Марк испытывал что-то похожее на чувство жалости, подумал: «Мечется, мечется, даже постарел от этого… Бывают же такие люди!»
Беседин был уверен: уж он-то знает психологию своего брата — рабочего человека. Поглядеть на Смайдова — смех один: ковыряется в морали и думает, что отыскивает ключики. Не там ищет! Илья в этом не сомневался. И Марк Талалин ему не поможет.
У Беседина был свой метод, проверенный на практике. Сколько раз, бывало, когда он начинал чувствовать, что авторитет его колеблется, Илья прибегал к этому методу, и всегда все кончалось благополучно. Надо только вовремя правильно оценить обстановку — и тогда…
Сейчас в воздухе снова запахло грозой: не только Костя Байкин и Димка Баклан идут в кильватер Марку, но и Андреич, и Думин, и даже Харитон начинают крутить носами, выражать недовольство. От жиру, конечно. Привыкли загребать деньгу. И воображают, что так всегда и будет и что никакой заслуги бригадира тут нет. Напомнить, что ли? Беседин знал, как напомнить…
Войдя в кабинет начальника цеха и поздоровавшись, Беседин устало опустился на диван. Борисов что-то подсчитывал на счетах и рукой показал: подожди, мол, сейчас закончу.
Беседин не мешал. Молча сидел, откинувшись на спинку, полузакрыв глаза и перебирая пальцами. Наконец Василий Ильич отодвинул от себя счеты, спросил:
— Что невеселый, Илья Семенович?
Беседин вздохнул.
— Веселого мало, Василий Ильич. Пришел к вам с просьбой: отпустите на десяток дней без содержания, к матери в деревню съездить хочу. Пишет, что заболела, а она там у меня одна. Присмотреть бы надо.
Борисов поморщился.
— Не время. Сам знаешь, сколько сейчас работы. Два танкера вчера в доки стали, зимовали где-то у Франца-Иосифа. Сейнер в третьем доке — тоже срочно. Я твою бригаду на аврал хотел бросить. А без тебя какой же аврал?
— Вот так надо, Василий Ильич! — Илья провел по горлу. — Приеду — наверстаю. Да и авралить как-то не очень… Понимаете, сварщики жаловаться начинают: устали, дескать, передышку бы надо.
Борисов посмотрел на бригадира.
— Устали, говоришь?
— Я-то не устал, а они… Разговорчики о нарушении законов и так далее. В обком союза хотят писать — заставляют-де работать сверхурочно.
Борисов помолчал, подумал. Потом протянул Беседину открытую пачку папирос, предложил:
— Кури, Илья Семенович. — И тут же спросил: — Мать тяжело заболела? Может, все-таки обойдется без тебя?
— Нет, Василий Ильич, ехать надо срочно. А насчет двух танкеров не стоит беспокоиться. Вернусь — в два счета сделаем. Ребята за это время маленько отдохнут, сил наберутся. Их пока в затон можно. Все равно ведь рано или поздно придется туда посылать…
Илья выжидающе посмотрел на Борисова: согласится, нет?
Еще полгода назад Борисов получил от начальника порта письмо, в котором тот просил отремонтировать старую баржу, стоявшую в затоне. Беседин знал об этом письме: Борисов не раз заводил с Ильей разговор о барже, но бригадир под разными предлогами оттягивал выполнение задания порта. Ждал нужного момента. И вот такой нужный момент наступил.
Борисов спросил:
— Ты осматривал посудину?
— Осматривал. И скажу вам прямо, Василий Ильич: тянуть дальше нельзя. Баржу надо срочно латать, иначе пропадет…
Илья действительно ходил в затон смотреть на баржу. Правда, там, в затоне, он случайно услыхал, что ее собираются списывать, но об этом предпочел умолчать. Мало ли что болтают?! Наряд-то на работу есть, а остальное не его дело. Лучше бы Борисов не артачился.
— Бригада не будет роптать? — спросил Борисов. — Корыто ведь, на нем не заработаешь.
— Всякий труд облагораживает человека, Василий Ильич…
Илья улыбнулся. Не мог не улыбнуться. Баржа в затоне обросла ракушками, проржавела. Ее латать — все равно что штопать старый чулок: возни много, а вознаграждение… Да, подработают братцы сварщики, Андреичу на перманент не хватит.
Он поднялся с дивана, положил на стол заявление. И когда Борисов размашисто начертил резолюцию, Илья прочувственно сказал:
— От души благодарю, Василий Ильич.
Харитон неистовствовал. Бросался то к одному сварщику, то к другому, кричал:
— Допрыгались? Докритиковались? Третий день висим на корыте, а где выработка? Полтора-два рублика в день на нос — это что? Нищий на улице больше выпросит, чем мы заработаем!