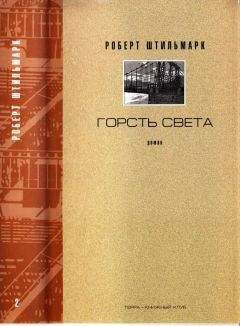Иван Мележ - Метели, декабрь
Он постоял минуту, стал разворачивать коня на дорогу к школе. Навстречу ей.
Она оторвалась от березы, шагнула на шлях. Несмело окликнула:
— Эй, дядько!
Он повернул коня к ней, подъехал. Спрыгнув с возка, поздоровался.
2— А я уже решил… — проговорил Башлыков весело, о издевкой над собой. Но спохватился, сказал торжественно: — Ну, с Новым годом.
— И вас также!
Видела, рад. От волнения сначала молчал, не находил слов.
— Давно тут?
— Не. Только что. — Какой недотепой показалась бы ему она, если бы призналась, как рано прибежала, как дрогла здесь. Как могла скрывала радость, старалась быть спокойной. Попросил, ну и пришла. И всего-то.
— Не замерзла?
Она едва сдерживала дрожь.
— Не.
Башлыков еще помолчал. Догадалась, думает о чем-то. Потом он предложил:
— Садись.
Сказал не очень уверенно. Не знал, наверно, что делать. Она села в возок. Под ней были кожух, сено. Он зашел с другой стороны возка, сел рядом.
— Поедем, — сказал веселей, чем надо было. Как бы подбадривая не только ее, но и себя.
Снова отметила уже известное ей: он не такой с ней важный, железный, как на людях. Деликатный и даже будто растерянный. Как бы смущается и не хочет, чтоб заметила. Как хлопец. Ей это нравилось.
Башлыков дернул вожжами. Хотел ехать по шляху. Она остановила:
— Лучше сюда… В лес…
Когда он повернул коня, больше из-за того, чтобы не молчать, добавила по-дружески, тихо:
— Дорога тут тихая… Тут днем мало кто… А теперь…
Ее неудержимо захватило волнение. Звенело в голове, колотилось сердце, чуть не колотило всю ее. Счастье или призрак счастья, что из того, завладели ею. Даже если бы ожидала ее погибель, все равно Ганна непременно пришла бы, кинулась, не раздумывая, не жалея.
Самое невероятное было в том, что, она чувствовала, и он тоже волнуется. И у него то же самое, как и у нее. И что, хоть только сидят рядом, они будто одно целое. В тишине этой, во тьме, в лесу, ночью. В возке, в котором они одни. И оттого, что он молчит, так бережно относится к ней, это их единство ощущалось еще острее.
— Придержи! Давай постоим, — попросила она, когда проехали немного. Сказала тихо, смущенно, будто боялась нарушить что-то. Будто заговорщица.
Почему-то хотелось стоять. Стоять среди тихого, с еле угадываемым шорохом леса и молчать. Молчать, как эти зачарованные затаившиеся деревья.
— Ты замерзла, — заметил, что она дрожит.
— Не, ничего…
Он достал кожух, накрыл ей плечи, прикрыл колени. Заботливо и нежно. Опасливо насторожилась — а ну обнимать станет, прижимать. Почему-то очень не хотелось сейчас этого. Не разрушить бы то хорошее, что полнило ее. И рада была, обошелся с уважением.
Отметила только, рука на миг задержалась на ее коленях. Долговато укрывал ей колени. Но оторвал руку.
— Я ненадолго, — сказала она.
Сказала неизвестно почему. Кто ей не давал тут быть долго? Сама себе будто приказала. Будто боялась чего-то, если останется подольше.
— Я тоже, — и добавил озабоченно: — Собрание в Загалье.
Заметила, чем-то недоволен. Не поняла, чем. Что-то он далеко в мыслях. И весь он, пригляделась, далекий. Нет, не ровня они, чужие. Подумала с упреком о себе: что еще придумала! На что надеялась! Чего пришла! Едва сдержалась.
— Есть у вас хоть часок для себя? — спросила небрежно, недобро.
— Теперь времени мало, — ответил он. — Теперь не до личных дел.
— Как же жить так?
— Горячая пора у нас теперь. Ответственная.
Он сказал искренне, просто, с надеждой, что она поймет, посочувствует ему. Она вспомнила вдруг то давнее собрание в школе. Пожалела его, но близость, которую так остро ощущала, не вернулась. Какое-то время помолчали, рядом разные, далекие.
Он, видимо, уловил эту отчужденность, она ему, конечно, была неприятна, но он не сделал ничего, чтоб развеять ее. Или неискушен в таких делах. Очень могло быть, что и не знал, как держаться, о чем говорить.
— Как ты живешь? — повернулся к ней. С трудом произнес «ты».
— Так и живу…
Сказала нарочно вызывающе, беспечно.
— Надо выходить на дорогу, — посоветовал. — На свою. Настоящую.
— Где она, та моя? — спросила с горечью, дерзко.
Он не откликнулся на ее дерзость, сказал серьезно, протестующе:
— У тебя хорошие способности. Ты многого можешь достигнуть.
— Аге! — подхватила она насмешливо. — С моей-то грамотой.
— Сколько ее у тебя?
— А нисколечки!
— Совсем не училась?
— Училась и долго. Только не тому, что некоторые. Коров доить, на кроснах ткать.
— Надо учиться.
Теперь он нашел себя. И говорил, и держался уверенно. И, похоже было, доволен своей ролью. Сильного, опытного. Мужчины!
— Теперь всюду требуются грамотные. На любом заводе. В артелях. Да и в колхозах. У вас же в школе кружок есть!
— Есть.
— А что ж не учишься!
— Попробую.
— Надо.
Он помолчал. Ганне показалось, о ней, может, думает: вот с какой темнотой связался. В душе вскинулось заносчивое: не все счастье в вашей грамоте. Своя грамота есть. «Связался!» Недолго и развязаться. Никто не набивается. Он вдруг ошеломил:
— А то, может, в местечко давай? — Опережая ее вопрос, добавил: — В местечке легче будет учиться.
Она представила себе местечко, чистое, нарядное, себя в нем, приодетую, незнакомую. Местечко было, что там ни думай, чем-то недостижимым, оно тянуло. И слова Башлыкова манили, аж закружилась голова в предчувствии неизвестного, прекрасного.
Она постаралась скрыть свой нелепый, казалось, восторг, сказала холодно, с усмешечкой:
— Что же я делать-то буду!
— У нас артели там, — ответил Башлыков спокойно, уверенно. — Работницей можно устроить. Сначала подучиться надо, конечно. Побудешь ученицей. А там мастером станешь! Рабочий класс, можно сказать. Ну, а затем и дальше можно пойти. Оттуда все дороги тебе открыты.
— Гляди! Так уже все просто! — хмыкнула она про себя, хоть от слов этих еще кружилась голова.
— Не просто, но не так страшно, как думаешь. — Он, чувствовала, злился на ее недоверие. Заговорил горячо: — Я, ты думаешь, с чего начинал? С того же, можно сказать, что и ты. Расписаться едва умел! Но решил: возьмусь, одолею все! И взялся! Кружки, курсы, комсомол! Работа и самообразование! И добился!
— Дак то вы! — запротестовала она.
— Главное, захотеть, проявить настойчивость. И всего добьешься! Ты сможешь, я вижу!
Через несколько минут он вдруг прервал разговор, сказал резко:
— Ну, мне надо ехать. Дела ждут.
— Надо дак надо, — согласилась она не без тайного сожаления.
Он повернул коня, дернул вожжи. Возок легко, неслышно поплыл к шляху, пересек дорогу. Когда по сторонам уже пошла серая гладь поля, предложил:
— Завтра выберусь, чтоб подольше. Сможешь?
— Приду.
— Туда же?
— Добре.
3Башлыков подвез ее до гумен и сразу повернул. Скоро возок его исчез в темноте.
Она прошла несколько шагов и остановилась на тропинке, охваченная смутным волнением. Стояла одна среди потемневшего поля, между загуменьем и школой, в тишине, которую вспарывали лишь пьяные голоса, долетающие откуда-то из села. Там пробовали петь. Она не думала ни о чем, не пыталась разобраться в том, что произошло. Как будто понимала, что ни к чему теперь эти думки, не додумается все равно ни до чего.
Просто хотелось постоять одной, побыть наедине с собой. Побыть под этим прояснившимся небом, с которого перестало сыпать снежной пылью. Тешиться холодным ветром, что обвевал, свежил лицо, радоваться ощущению свободы, простору, которые так милы теперь ее душе.
Может, после Башлыкова неприятно будет увидеть Параску. Может, и такое будет. Но она не думала об этом. Не хотелось думать ни о чем. Наслаждалась ночью, тишиной, свободой.
Неохотно побрела к школе. Окно в Параскиной комнате светилось, и вновь пришла виноватость. Все же неловко вышло, не просто будет видеться с Параской, смотреть в глаза ей. Мелькнуло: лучше б она спала уже. Чтоб не встретиться сейчас, не срамиться.
Напряженность была, когда замедляя шаги, переступила полоску света из Параскиной комнаты. Ждала, вот выйдет из дверей сама, поглядит, поймет все. Не вышла. На кухне Ганна нащупала лампу, зажгла больше для того, чтобы приглушить сумятицу в душе, стала перетирать чистую посуду, переставлять то, что стояло уже на месте.
Вела себя так, будто вернулась из села, ходила проведать. Параска все не показывалась, корпит, наверно, над своими тетрадками. Или, может, понимает все и не хочет досаждать. Ганна как бы чувствовала осуждение, которое унижало, ранило ее гордость.
Постепенно возвращалось спокойствие, возвращалась и уверенность. Даже захотелось уже взглянуть ей в глаза. Пусть не думает о ней, Ганне, чего не следует!