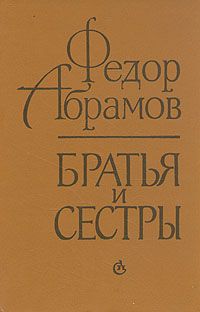Федор Абрамов - Пути-перепутья
Первый раз сверканул этот белый платок перед Подрезовым в сорок третьем году, когда, возвращаясь из верхних колхозов, он по пути привернул на Марьины луга — главные покосы пекашинцев.
Время было тяжелейшее — голод, непосильная работа, постоянные похоронки с фронта, ну и, конечно, как только он подъехал к избушке, бабы задавили его слезами и жалобами.
И вот тогда-то, отбиваясь от баб, он и увидел белый платок на вечернем лугу — яркий, чистейшего снежного накала.
— Кто это там у вас?
— Да председательша. Зарод дометывает — боится, сено под дождь уйдет.
И, помнится, тогда Подрезову только от одного вида этого белого платка, так зазывно, так ярко, не по-военному горевшего на вечернем лугу, стало легче на душе.
И он схватил первые попавшиеся на глаза вилы — и к ней, к Анфисе, на помощь.
А вскоре к зароду подошли и бабы. И спасли сено — до дождя дометали зарод…
Белый платок полоскался в вечерней синеве, гас, снова вспыхивал, а Подрезов стоял у окна в своем кабинете и плакал…
С ней, с этой бабой из Пекашина, связаны у него самые дорогие, самые святые воспоминания о войне, о той небывалой бабьей битве, которой командовал он на Пинеге.
И вот он криком, бранью встретил ее, по сути, предал свою первую помощницу, своего безотказного командира колхозной роты под названием «Новая жизнь»…
И мало того. Опять, опять, как раньше, отплясывался на ней, срывал свой гнев, свои промахи и ошибки…
4В приемной у Дорохова за секретарским столиком горбился какой-то молодой незнакомый лейтенант в голубой фуражке, должно быть, из приезжих, и печатал на машинке. Подрезова это немало удивило: никогда в жизни не видал мужчину за пишущей машинкой.
Но, в свою очередь, немало удивился и лейтенант. И тут голову тоже не приходилось ломать. Не часто заглядывал в это заведение хозяин района. Может быть, раз или два за все девять лет своего секретарства.
Правда, Подрезов не мог пожаловаться на своих начальников — ни на старого, Таранина, которого три года назад перевели в другой район, ни на нынешнего, Дорохова. Нет, мужики что надо. Нос без толку не задирают и по первому зову, без задержки являются к нему.
А с нынешним, с Дороховым, он даже позволял себе шуточки при встречах:
— Ну как, безопасность? Все пишем! Много накатал на меня?
— Да накатал, не без того же! — в том же духе отвечал Дорохов.
И вот сейчас, когда Подрезов переступил за порог его кабинета, Дорохов, видно, вспомнил их всегдашнюю игру:
— Ба, какой гость у меня!
Живо, не чинясь, поднялся из-за стола, пошел ему навстречу со слегка приоткрытыми в улыбке передними золотыми зубами — будто горбушку солнца нес во рту. Да и вообще — красив Дорохов. Щеголь мужчина. Гибок, строен, всегда до синевы выбрит и всегда надушен, как городская барышня.
Единственно, что, по мнению Подрезова, несколько портило его холеную красоту, это его всегдашняя бледность да болезненно-красные усталые глаза.
Но сейчас, присматриваясь к его кабинету с тяжелыми черными шторами, которыми наглухо были затянуты окна, он, кажется, понял, отчего это. И еще он понял, почему по вечерам в этом доме всегда темно — в лучшем случае иногда видно узкую желтую полоску света в нижнем этаже.
— Так, так, — сказал Подрезов, не спеша, по-хозяйски вышагивая по кабинету. — Давим, говоришь, контру? Может советский народ жить и работать спокойно?
— Может, — улыбнулся Дорохов.
— Сухим держим порох в пороховницах?
— Сухим.
— То-то. В надежных, значит, руках карающий меч? — Подрезов кивнул на портрет Дзержинского на стене.
— В надежных.
В таком вот духе они и говорили. Он, Подрезов, задавал какие-то дурацкие, никому не нужные вопросы, а Дорохов с золотой улыбочкой отвечал. Коротко, его же словами.
В кабинете из-за того, что наглухо запечатаны окна, было жарко. Пот лил с Подрезова.
Он начинал злиться.
Его до глубины души возмущало собственное малодушие. Почему, почему он не рубанет прямо: так и так, мол, товарищ Дорохов, хватит. Проучил ты этого пекашинского дурака — и хватит, гони в шею. Нечего ему зря казенные хлебы переводить.
Но вот как раз этого-то самого простого и самого сейчас нужного он и не мог сказать. Струсил?..
Раньше, например, ему и в голову не пришло бы тащиться самому сюда. Я райком! Подрезов. И никаких гвоздей. А то, что ты там кому-то будешь шлепать и названивать, — наплевать. Наплевать и растереть.
— Наконец завелся внутри мотор. Былая сила вернулась к нему.
Он круто повернулся к Дорохову, даже голову вскинул, но опять эта золотая улыбочка… А кроме того, Дорохов услужливо протягивал ему раскрытую пачку «Казбека».
Пришлось взять толстую папиросину — не орать же на человека, который тебя угощает! И, в общем, началась та же самая ерундистика, от которой еще недавно тошнило его.
— Международная обстановка сейчас, по-моему, ничего, а? — сказал Подрезов. — Особенно после того, как у нас своя атомная бомба появилась.
— По-моему, тоже, — ответил Дорохов.
— По американцам это удар, верно? — Вот тебе и русский Иван! Опять себя показал как надо, весь мир удивил…
— Да, удивил.
— А внутреннее у нас положение тоже на высоте. Читаешь газеты? Вся страна рапортует о досрочном выполнении хлебопоставок…
Тут Подрезов внутренне весь напрягся: все-таки он подвел разговор прямо к Лукашину. Неужели Дорохов и на этот раз не пойдет ему навстречу?
Не пошел.
— Рапортует, — ответил.
Подрезов вмял недокуренную папиросу в пепельницу на столе, с напускной молодцеватостью расправил плечи.
— Ладно, товарищ Дорохов, мне пора. Будешь завтра на совещании? В общем-то, я насчет этого и зашел. Топал мимо — чего, думаю, не зайти?
— Постараюсь, сказал Дорохов.
Улыбаясь, они пожали друг другу руки.
Дорохов до дверей приемной проводил почетного гостя. И даже лампу взял со стола лейтенанта, все так же уныло выстукивавшего на машинке, чтобы посветить Подрезову в темном коридоре.
Подрезов генералом прошагал по коридору.
А потом, а потом…
Хорошо, что на свете есть осенняя темень! Она, как плащом, накрыла его. Черным, непроницаемым, словно шторы в кабинете у Дорохова. И он мог идти запросто, тяжело дыша, тяжело бухая своими чугуном налитыми сапожищами, нисколько не заботясь о том, что его увидят люди.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Холодный сиверко резвился на пустыре возле здания райисполкома. И в вышней темноте, над его крышей, шумно, с хлопаньем пласталось невидимое полотнище красного флага.
Но напрасно Анфиса искала глазами свет в окошках. Его не было. Кончился рабочий день в райисполкоме, а вечерняя служба еще не началась — только внизу, на первом этаже, где трудилась уборщица, время от времени то в одном, то в другом окне вспыхивала лампа.
— Анфиса, Анфиса…
Кто-то — давно уже, еще с той минуты, как она вышла от прокурора, тащился за нею сзади, но разве могла она подумать, что это Варвара? А то была она, Варвара.
Со слезами, со всхлипами бросилась ей на шею.
— Я еще давеча тебя заприметила, когда ты от Дорохова вышла — я ведь там уборщицей, — да, думаю, ладно, не буду мешать, пущай сходит к прокурору. Сказал он тебе чего, нет?
— Чего скажет. По закону, говорит…
— По закону! Какой такой закон — самого честного-распрочестного человека сажать?
Крепко подхватив под руку, Варвара повела ее куда-то вверх по главной улице, и у нее не было сил сопротивляться.
Начала соображать Анфиса, когда они стали сворачивать в какой-то заулок.
— Пойдем, пойдем, — зашептала Варвара на ухо, все так же крепко держа ее под руку. — С ума-то не сходи. Нету дома Григорья. А хоть бы и дома был — что с того? — Невелика птица милиционер: куда пошлют, туда и пойдешь.
Вот так Анфиса и оказалась в маленькой боковушке у Варвары на втором этаже.
Варвара ухаживала за ней, как за малым ребенком или за больной. Она разула, раздела ее, заставила натянуть на ноги теплые, с печи, валенки, а потом, когда поспел самовар, начала кормить и поить чаем.
— Ешь, пей. Ты ведь, наверно, еще и не ела сегодня?
— Да, пожалуй… — кивнула Анфиса и вдруг расплакалась. — Не думала, не думала я, Варвара, что у тебя найду пристанище…
— Да ты с ума сошла, Анфиса! К кому же тебе идти, как не ко мне! Господи, всю войну вместях, какие муки приняли, а теперь, на старости лет, счеты сводить… Пей, пей да не думай — он тоже не голоден. — Тут Варвара быстро привстала с табуретки, зашептала ей в лицо: — Я ему передачу сегодня передала.
— Кому? Ивану?
— Ладно, ладно, потише. Есть тут один милиционер — упросила…
— Ну и как он? — У Анфисы дыханье перехватило.
— Ну и ничего. Да ты не убивайся, бога ради. Сколько ни подержат выпустят. За что его держать-то? Человека убил? Деньги казенные растратил?