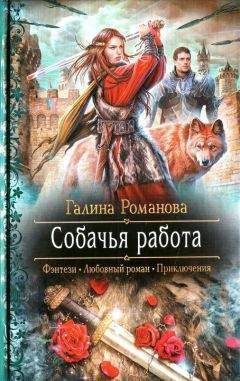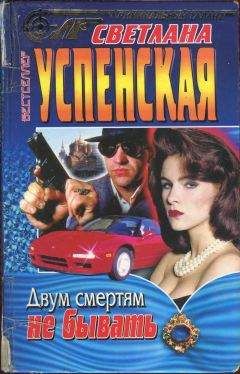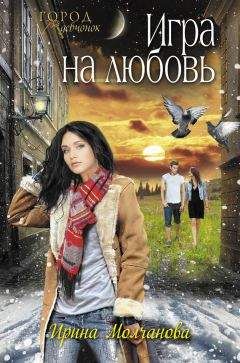Анатолий Димаров - Его семья
Как и вчера, больше всех говорили пожилой колхозник с пышными, унаследованными еще от какого-то запорожского предка усами и демобилизованный старшина. Пряча насмешливые серые глаза под густыми кустиками бровей, пожилой колхозник все время вызывал старшину на словесный поединок, подбивал его на спор, умышленно отрицал все, что говорил старшина. Но демобилизованный был преисполнен добродушия — его просто распирало от радости, вызванной предчувствием недалекой встречи с родным селом, с родителями и родственниками, а главное — с девушкой, о которой он говорил: «Та й лучшая з усих на свити!»
— Разве ж вы знаете наших девчат! — искренне жалея присутствующих, так много из-за этого потерявших, восклицал старшина. — Да к нам парни со всей Полтавщины свататься ездили!
— А вы, значит, для них своих девчат берегли? — ехидно ввертывает колхозник.
— Я в эту войну где только не побывал, — не обращая внимания на язвительное замечание колхозника, продолжал старшина. — И в Румынии, и в Венгрии, и в Австрии, и в Германии… Ну, не без того, чтоб на какую-нибудь там дивчину раз-другой взглянуть. Нечего хаять, хорошие девчата бывали. А все-таки не то, что наши…
— А ваши что, медом мазаны?
— Медом не медом, а наша как пройдет мимо тебя, ты уж и ног под собой не слышишь. Стоишь и не дышишь: соседка это Марина или парижская артистка из театра оперы и балета? А она как взглянет на тебя, как поведет плечом, — пишись, парень, в нестроевую да начинай на звезды вздыхать… Куда бы тебя после этого ни занесло, что бы на твою голову ни свалилось, а она так и будет стоять у тебя перед глазами. Умирать будешь — о ней вспоминать станешь… А уж если обнимет!.. Мать ты моя родная! — даже схватился старшина за голову. — Обо всем на свете забудешь, а на душе у тебя так, будто тебя взяли да сразу в генералы произвели! Идешь потом домой и сам себе удивляешься: что ты за цаца такая, что тебя такая дивчина обнимала!..
Все слушали веселого старшину и смеялись, любуясь им.
От всей души смеялся и Яков. Чувствовал какую-то удивительную легкость на сердце, будто остались за дверями вагона все недодуманные мысли и нерешенные проблемы, будто вдохнул он полной грудью необычайно чистый и свежий воздух, сразу же вернувший ему ощущение давно забытой молодости…
И поэтому проникался все большей симпатией к жизнерадостному старшине.
— А что вы станете делать, когда домой приедете? — полюбопытствовал Яков.
— Женюсь, — не задумываясь, ответил старшина. — На другой же день.
— И хорошая девушка?
— Хорошая ли? — удивленно переспросил старшина. — Та й лучшая з усих на свити!
— А как ее зовут?
— Не знаю… пока что, — искренне вздохнул старшина.
— Да видал ли ты ее когда, друг любезный? — даже зашевелил усами колхозник.
— Еще не видал…
Все прыснули со смеху.
— Так откуда ж ты знаешь, что она лучше всех? — возмутился колхозник. — Может, на ней там воду возят!
Но старшину не так-то легко было привести в замешательство.
— Та, что за меня пойдет, и будет лучшая… За то время, что я воевал, сколько в нашем селе девчат подросло!..
— И все тебя ожидают, — насмешливо пробормотал кто-то наверху.
Яков вместе со всеми посмотрел вверх. С третьей полки свешивалась лохматая голова с острым птичьим носом и сизым выбритым подбородком. Прямо на него смотрели неопределенного цвета глубоко запавшие глаза.
А голова зашевелилась, раскрыла тонкие губы:
— Жениться? А ты знаешь, что такое — жениться? Как женился, так, значит, бери в свои руки вожжи да погоняй…
— Ты смотри, какой кучер нашелся! — от души удивился колхозник. Но реплика его будто и не дошла до пассажира третьей полки.
— Видали, у него будет лучше всех!.. Красота, она что — на тарелке режется? Нужно, чтоб жена хорошей хозяйкой была. Если жинка — хорошая хозяйка, то дашь ей рупь — она два сделает. Если уж ведешь, мужик, во двор корову, так нужно, чтобы молоко давала. А не дает молока, то жаль и веревки…
— Слушай, солдат, божьего человека да бери корову: хоть мычать будет, зато молока вволю попьешь, — с насмешкой посоветовал колхозник.
Голова что-то буркнула и под общий хохот спряталась на полке.
Колхозник некоторое время смотрел вверх, очевидно надеясь, что «божий человек» не оставит так интересно начатого спора, а потом снова нацелился прищуренным глазом на старшину:
— А скажи, товарищ солдат в запасе, вот ты в Германии бывал — американских буржуев там видел?
— Приходилось…
— А какие они из себя? Очень страшные?
— Да нет…
— Что-то они очень уж про войну новую да про бомбы атомные кричат…
— Не может сейчас войны быть, — ответил старшина. — Воюет кто? Народ, простые люди, а не те, кто про войну кричат. А народы не хотят воевать, хотят в мире жить. Они ею, проклятой, во-он как сыты, — провел он ладонью по шее. — Я вот еду домой не для того, чтобы завтра опять винтовку в руки брать… Я хочу свой колхоз видеть таким, как до войны, а то и еще лучшим. А вы знаете, какой был наш колхоз? Первый на всю область! Какие урожаи, какие фермы… А кони какие у нас были!..
— Разве теперь кони? Вот когда-то у моего деда кони были…
— За воротником? — поднял вверх уже сердитое лицо старшина. — Которых ногтем бьют?..
Не выдержал и колхозник:
— И чего ты, божий человек, раскаркался? Залез на полку, как на ветку, да и кар! кар! кар! на головы людям. Слазь сюда, если уж такой разумный! Или на штаны еще не заработал?
— Мне твою глупость и отсюда хорошо видать…
Беседа то угасала, то вспыхивала живыми огоньками, а колеса стучали и стучали, и за окном проплывали люди, села, поля — необозримый простор, который так любил Яков Горбатюк. Где-то в этом просторе затерялся небольшой районный городок, в котором он отроду не бывал и в котором живет женщина, овладевшая всеми его мыслями. Она такая же юная, как и когда-то, у нее большие ласковые глаза и мягкие теплые руки, которые ласково лягут ему на плечи. И пусть тогда не слышат под собой ног все старшины на свете — он и не подумает завидовать им!..
Какой ты стала теперь, Валя? Как изменилась за эти годы?
Прижавшись горячим лбом к стеклу, Яков мечтательно смотрел вдаль.
II
Поезд исчез во тьме: небольшой мирок, замкнутый в четырех стенах вагона, покатил дальше, оборвав случайные знакомства и беседы, которыми так богата дорога. Еще под Полтавой сошел веселый старшина, которого в самом деле встречала целая стайка звонкоголосых девчат. Они окружили его, начали тараторить, радостно смеясь и лаская его сияющими глазами. В вагоне долго еще потом шутили, вспоминая красное, ошеломленно-счастливое лицо старшины. «Да, трудновато ему будет жениться», — задумчиво поглаживая усы, сказал колхозник. «Ничего, она сама его найдет!» — утешил «божий человек», но никто даже не взглянул на него.
Через некоторое время сошел и пожилой колхозник, сердечно со всеми попрощавшись и пригласив каждого к себе в гости: «Если, может, будете когда в нашем селе, то спросите Панаса Тимофеевича… Так и спрашивайте: Панаса Тимофеевича, — любой человек вам дорогу укажет…» Покидали вагоны и другие пассажиры, старые и молодые, молчаливые и словоохотливые. Одни выходили, и о них сразу же забывали, будто стоял здесь чемодан, а потом его вынесли, других же еще долго вспоминали и улыбались теплой улыбкой.
И Яков, стоя на перроне и следя за красным огоньком, который убегал вдаль, спрашивал себя, будут ли вспоминать его так, как старшину или колхозника, и ему очень хотелось, чтобы при воспоминании о нем лица расцветали такими же искренними, хорошими улыбками: вот ехал, мол, еще один славный человек и оставил по себе светлый след в душе. Провожая огонек глазами, пока он не растаял во тьме, Горбатюк думал, что все-таки хорошо жить на земле, хорошо даже тогда, когда приходят невзгоды, — только для этого нужно верить в лучшее так, как верил он сейчас.
Яков вздохнул, поднял с земли чемодан и огляделся вокруг. Немногочисленные пассажиры уже разбрелись кто куда, станционные служащие тоже покинули перрон. В серой предутренней мгле тускло горели фонари, только из одного раскрытого окна станционного помещения вырвался сноп яркого света, и где-то далеко-далеко стонали рельсы. Может быть, по ним уходил тот поезд, которым приехал Горбатюк, а может быть, приближался другой, и раздольная степь посылала вперед весточку о нем.
Здесь, на крайнем юге Украины, еще удерживались теплые ночи, лишь рассветы приносили прохладу…
Где-то совсем недалеко спит Валя. Горячим румянцем пылают щеки, улыбаются во сне полуоткрытые уста, неясно белеют в темноте нежные руки.
Он не придет сейчас, не постучит, не нарушит ее сон. Пусть спит, чтобы встала она свежая, как утро, — такой он хочет увидеть ее. Поэтому он придет вместе с солнцем, а пока что посидит в парке, тем более что небо совсем уже побледнело и ждать придется не очень долго.