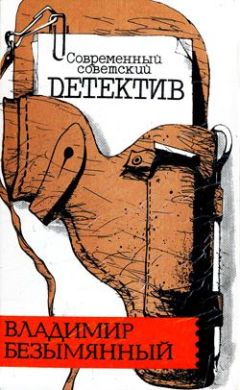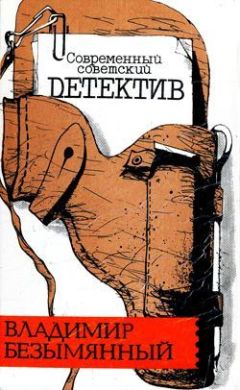Анатолий Ананьев - Версты любви
«Рано еще, молодой человек. Еще погуляйте».
«Но...»
«На закате, только на закате».
«Но вы?..»
«Повторяю: на закате!»
Все те же развернутые центральные газеты лежали перед ним на столе, и смотрел он так же, наклонив голову из-под очков, но ни этот его взгляд, ни разговор, который оставил-таки на сей раз неприятное впечатление, все же не смогли нарушить общего хорошего настроения; только теперь, очутившись на площади, я не пошел ни к реке, ни по селу, а присел на приступок с теневой стороны церкви, выбрав место так, чтобы видеть крыльцо (для того, конечно, чтобы не заходить больше к Евсеичу и не спрашивать, приехал или не приехал заведующий: «Сам увижу!»), и до заката, как было определено мне время, то вскидывал взгляд на райзо, то на удлинявшуюся тень от церкви, то смотрел себе под ноги, на пыльные ботинки и подмятую под ними траву, которую жалко мне было видеть надломленной и подмятой.
К зданию райзо никто не подъезжал.
Когда же, не выдержав долгих минут ожидания, я опять вошел к Евсеичу, тот только развел руками, дескать, рад бы помочь, да не могу, не в силах.
«Нет?» — все же для убедительности спросил я.
«Нет, — ответил он. — Но должен был сегодня обязательно вернуться. А может, махнул прямо домой, не заезжая сюда, а? — как бы спрашивая меня, продолжил он и, тут же добавив: — Все может быть», — покрутил ручку телефона и снял трубку.
Пока он разговаривал, я все время смотрел на него. Я не слышал, что отвечали ему, но по тем словам, которые произносил он: «Что? Только что? Да, да, пожалуйста», — по выражению лица, глаз, словно вдруг оживших и подобревших, особенно когда раздался, наверное, в трубке голос самого Андрея Николаевича (так величали заведующего райзо, и об этом легко можно было догадаться по учтивости, с какою, продолжая разговор, произносил затем это имя и отчество Евсеич), я понял, что заведующий райзо дома, и заволновался, что сегодня он уже не придет сюда, не примет, и все будет перенесено на завтра.
«Что же делать?» — проговорил я, продолжая, однако, еще с надеждою смотреть на Евсеича, и он, снова уловив мое беспокойство, неожиданно, зажав ладонью трубку и наклонившись ко мне, спросил:
«Как фамилия?»
«Пономарев», — быстро ответил я.
«Пономарев, — доложил он в трубку, приоткрыв ладонь, и затем, наклоняясь, задал новый вопрос: — Какая специальность?»
«Агроном».
«Агроном, — опять доложил он и тут же снова обратился ко мне: — Что закончил: институт? Техникум?»
«Техникум».
«Техникум, — повторил он. — Что? В Дом колхозника? Андрей Николаевич, вы же знаете, закрыт на ремонт. Может, здесь, у вас в кабинете, на диване? К вам? Ага, хорошо, хорошо, — заключил Евсеич и положил трубку. С лица его, как только он кончил говорить, словно соскользнуло, слетело, стаяло добродушие; уже знакомым мне холодным, равнодушным тоном он сказал: — Вам повезло, молодой человек. У Андрея Николаевича, э-э, отличное настроение, он приглашает вас к себе в дом. Там и поговорите, и переночуете».
«Спасибо».
«Чего «спасибо»? Куда идти-то, знаешь? За площадью, вон, на южной стороне, на Малой, как мы ее называем, улице, дом восемнадцать, новые ворота, там спросишь. Хотя, что спрашивать, — перебил он себя, — новые ворота!»
«Спасибо».
«Эй, эй, чемодан с собой, тут некому его караулить».
Дом Андрея Николаевича я отыскал сразу, но если говорить о приметах, то сильнее запомнились мне не новые ворота. По заросшей травою Малой улице, по самому центру ее вилась наезженная телегами колея, а возле дома Андрея Николаевича полукружьем отходила от нее к новым воротам боковая, более узкая; она была явно проложена подъезжавшей сюда по утрам и вечерам пароконной земотделовской рессоркой (тогда ведь районное начальство не ездило, как сейчас, на вездесущих «газиках»; да и самих «газиков» еще не было); по этому узкому колесному следу, разглядывая его, я, собственно, и подошел к нужным воротам. От них действительно, как от свежих сосновых стружек, пахло еще смолой; и крыша дома, показалось мне, тоже была недавно перекрыта, тесины еще не успели потемнеть от дождей и солнца, но это не вызвало тогда никаких подозрительных мыслей; просто дом чем-то вроде выделялся среди других, стоявших вдоль улицы, и скорее даже не воротами и тесовой крышей, а застекленною верандою или выложенной красным кирпичом дорожкой к крыльцу, словом, чем-то да выделялся, я запомнил это, но важным для меня было в те минуты другое: веселое и доброжелательное настроение, с каким Андрей Николаевич, выйдя на крыльцо в брюках с подтяжками поверх белой нательной рубашки, крикнул:
«От Евсеича?»
«Да».
«Проходи!»
«Мне...»
«Проходи, когда приглашают. Собаки нет во дворе, не бойся, проходи!»
Я поднялся по ступенькам на крыльцо, и как только очутился рядом с Андреем Николаевичем, хотел ли, не хотел этого — чаще всего происходит это помимо нашей воли, мы просто как бы попадаем под гипнотическое обаяние хозяина и уже покорно и с улыбкой выполняем все, что ни предложат нам: куда пройти, где сесть, что положить в тарелку и о чем говорить! — так вот и я, хотел ли, не хотел, а невольно оказался в таком положении, когда должен был только слушать, улыбаться и подчиняться гостеприимной и доброй как будто воле Андрея Николаевича; я понимал, что прежде всего нужно сейчас же объяснить будущему своему начальнику, кто я и зачем пришел, но ни на крыльце, ни на застекленной веранде, куда тут же почти втолкнул меня Андрей Николаевич, не смог произнести ни слова; да что там: не смог произнести! — не успел даже сообразить, что надо хотя бы извиниться за позднее беспокойство, как уже стоял в комнате, у порога, держа чемодан в одной руке, фуражку в другой, и растерянно обводил взглядом сидевших за празднично накрытым столом (они все тоже смотрели на меня, отчего я еще более терялся и чувствовал смущение) людей. Я, в сущности, оказался в том же положении, как и вы, Евгений Иванович, тогда там, в освобожденных Калинковичах, когда ординарец комбата поднял вас с постели; вы думали, что сейчас получите очередное боевое задание, а попали на торжественный ужин, и все было неожиданно и, может быть, потому и поразило вас; я ведь тоже не рассчитывал ни на такое гостеприимство, ни на застолье, а свои мысли и планы одолевали меня, и было свое представление о встрече и разговоре с заведующим райзо, и потому долго еще, уже будучи приглашенным за стол, сидел с глупым выражением лица, улыбаясь и подставляя тарелку подо все, что предлагала отведать светловолосая и круглолицая жена хозяина дома Таисья Степановна. Впрочем, еще от порога я прежде всего обратил внимание на нее, потому что она, встав из-за стола раньше, чем Андрей Николаевич представил меня, подошла и, молча взяв из моих рук чемодан и фуражку, понесла их в соседнюю комнату. Я видел ее лицо перед собой, вот, рядом, и потом, может быть, неприлично долго смотрел на спину и коротко постриженные и аккуратно причесанные волосы, когда она удалялась; не знаю, был ли заметен для других этот; мой взгляд, но сам я, помню, почувствовал неловкость. Она была довольно-таки еще молода, лет тридцати, в том возрасте, когда женщины особенно привлекательны и когда все в них соразмерно и сообразно: и полнота, и свежесть, — я не потому так о ней, что понравилась с первого взгляда (какой тут может быть разговор: мне — девятнадцать, ей — тридцать!), или что я потом, что ли, влюбился в нее, нет-нет, просто она произвела на меня приятное впечатление, и та цель, то счастье, какое грезилось днем (какое должно было раскрыть мне объятья здесь, в Красной До́линке), показалось как будто еще доступнее, ближе. И одета она была не ярко, не празднично, в том платье, в каком обычно ходила в доме, ведя хозяйство, да и все, на кого я потом смотрел, а гостей-то было всего: Федор Федорович Сапожников, местный, но государственного масштабу селекционер с женой Дарьей и тремя невестившимися дочерями: Викторией, Клашей и Фросей (все они были, как мне помнится, на одно лицо, похожие на своего короткошеего и ушастого отца; и платьица были на них одного покроя — со сборками на груди, и одного цвета — белые в мелкий синий горошек), — все были одеты не нарядно, как-то по-домашнему, вернее, по-дорожному скромно, и я сразу же, пока еще стоял у порога, уловил эту непраздничную атмосферу; непраздничную в том смысле, что ни именины, ни, разумеется, Первое мая, ни еще какая-нибудь, пусть даже семейная, дата, а просто Федор Федорович со всеми своими чадами зашел или, может быть, заехал к доброму старому другу так, без всякого повода, лишь навестить, и все, что стояло на столе, было приготовлено наспех, но щедро, так как гостю, несомненно, были рады здесь, и Федор Федорович чувствовал себя как дома, и его жена, и дочери, и Таисья Степановна не сочла нужным принарядиться, да и сам Андрей Николаевич, вышедший чуть вперед меня, заложив большие пальцы за широкие подтяжки брюк, как всегда, наверное, делал, когда бывал доволен собой, похлопывал ладонями по белой, облегавшей живот рубашке.