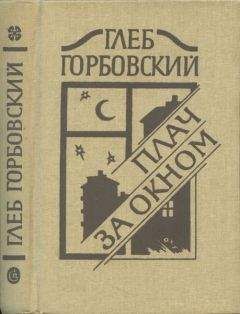Альберт Мифтахутдинов - Дни ожиданий
Потом, когда все всласть прокомментировали бега, воздав должное первому и успокоив последнего («Ты бы тоже пришел первым, если бы не запнулся на старте, если бы перепрыгнул плавник, а не обегал его, если бы…» и т. д. — все великодушно отыскивают тысячу причин), начинаются соревнования по стрельбе.
После соревнований трапеза.
В прошлом году Утоюк приковылял последним. И мой приз — бутылка «старки» досталась Тымкувье. Я прибежал предпоследним, мне достался песец, его выставил Тымкувье. У меня было время отдышаться, а старик все еще бежал. На снегу стоял последний приз — термос.
Я вытащил из рюкзака флягу и поставил рядом. Когда Утоюк пришел к финишу, он в растерянности остановился. Он один, а подарка два. Что делать? Но кругом был веселый галдеж, все кричали, чтобы он брал термос, и Утоюк взял… флягу.
Нам весело, мы вспоминаем прошлогодний праздник.
— Ты останешься? Подождешь?
— Не знаю…
— Будет хорошо… люди приедут… — уговаривает старик.
Мы сворачиваем в распадок.
Нарта останавливается, старик изучает следы. Следы идут из моря в сопки.
— Сытый умка, не злой… — замечает Утоюк.
— Почему?
— Следы большие, круглые. Смотри. А когда голодный он — след узкий, длинный.
Мы едем дальше, в конец распадка. Туда ведут следы. Собаки почуяли что-то, они волнуются, они бегут быстро. Старик резко осаживает их, вбивает остол между копыльев нарты, достает карабин.
До сопки метров двести, но ветер на нас, и зверь нас не чует. Большая желтая на ослепительном снегу медведица копошится наверху сопки, потом садится и съезжает на заду вниз, совсем как школьница на портфеле с ледяной горки. Рядом с ней кубарем скатывается медвежонок. Она дает ему легкий шлепок, и они снова наперегонки весело бегут в гору.
— Играет… — шепчет Утоюк.
Мы долго смотрим на их игру, потом Утоюк оборачивается и смотрит на меня. Я пожимаю плечами, ставлю затвор на предохранитель и кидаю карабин на нарту. Старик улыбается, прячем карабин в чехол из нерпичьей шкуры, разворачивает нарту, и мы едем домой.
— Это ведь не наш медведь, правда?
Старик кивает.
— Наших песцов трогал другой, да?
Старик кивает.
Мы себя уговорили, и нам легче от несостоявшейся охоты.
…Дома старик долго возится, готовя собакам ужин. Я вижу, что куски сегодня побольше.
— Что-то ты им многовато сегодня нарезаешь, а?
Старик улыбается своим мыслям.
На улице полыхает костер. Стоят морозные дни, и собакам нужна теплая еда, я готовлю ныпаны — собачий суп. В большой чан кидаю пласты снега, потом много мёрзлой крови и нерпичий жир с маленькими кусочками мяса. Потихоньку от Утоюка кидаю в ныпаны несколько горстей муки и размешиваю все доской от ящика. Чай мы пьем у костра.
— Ты останешься на праздник?
Я ухожу в избушку. Возвращаюсь, прячу кулак за спину:
— Угадай!
Он удивленно молчит.
Разжимаю ладонь. Старик смеется. На ладони два кубика из моржового клыка. Их сделал мне Утоюк по типу игральных костей. Только вместо шестерок на каждом кубике — голова моржа. Гравировал тоже Утоюк. Этот подарок всегда со мной уже три года.
— Дай кружку!
Старик выливает остатки чая и протягивает кружку.
— Вот если выпадет два моржа, останусь.
— Три раза кидай, — серьезно говорит Утоюк.
Кости гремят в кружке.
Раз! — двойка и тройка.
Кости гремят в кружке.
Два! — единица и пятерка.
Кости гремят в кружке.
Три! — два моржа.
Высыпаю кубики, прячу их в карман. Старик наливает в кружку новый чай. Интересно, догадался ли он, что я все равно бы остался, даже если бы моржи и не выпали?
Египетские ночи Ванкарема
Сухие руки Кергитваль гладят меня по голове. Я засыпаю, и мне чудится, будто я дома и рядом со мной мама. Я уже давно не был дома. Кергитваль гладит меня по голове, а ее муж, старик Утоюк, лежит в углу на шкурах и слушает по спидоле джазовую музыку. Слушает он сосредоточенно. Вот так же он вяжет сети на нерпу или чинит нарту.
Кергитваль год уже не видела своего сына Куны, она говорит, что я похож на него, и просит рассказать о нем, ведь он мой друг и месяц назад мы вместе пурговали за Островами Серых Гусей.
А я вспоминаю, как в последний мой приезд на материк мама так же гладила меня по голове и просила рассказать о моих чукотских друзьях, а отец сидел за пианино и наигрывал старые джазовые мелодии. Мама жаловалась, что все дети как дети, а я вот болтаюсь по свету, и нет у меня своего угла.
Кергитваль вздыхает, говорит, что пора бы и Куны приехать, у всех дети как дети, а ее беспутный ищет счастья в другой стороне…
Дочь Кергитваль Машенька приносит чай, мясо на деревянном подносе и приглашает ужинать. Машеньке восемнадцать лет, она всю жизнь провела на ванкаремском побережье и только этой осенью пойдет в пятый класс.
Я смотрю на часы. Там, на материке, наверное, из школы вернулась моя сестренка с полным портфелем двоек. На уроках она пишет стихи или сочиняет музыку, и: с математикой у нее нелады.
Мне хорошо в избушке Кергитваль. Здесь мои друзья. Чтобы заехать к ним, я сделал крюк в двести километров. Шеф об этом не узнает, потому что собаки — не самолет, и можно ехать куда хочешь, даже если командировка кончилась. Она кончилась уже месяц назад, но у меня много друзей, и я обещал еще в прошлом году, что приеду. И Витя Гольцев сказал, что надо ехать, раз обещал.
Ему самому ехать не очень хотелось, но поехал он из-за меня. А где-то там, откуда мы приехали, его ждала женщина, и он спешил к ней, хотя Кергитваль и Утоюка ему тоже хотелось бы увидеть.
Он гнал собак терпеливо и молча.
— Ничего, — говорил я ему, — все еще впереди, какие твои годы!
С Витей мы живем вместе, у нас общее хозяйство, общие книги и собаки, вот только иногда приходит блондинка, командует в доме, приводит в порядок этажерочки-фужерочки, и мы сидим молча, и становится скучно, и когда она уходит, мы снова все ставим на свои места.
Сейчас Витя помогает Машеньке хозяйничать. И чтобы не пропадало время, натаскивает ее по математике.
— У каюра Утоюка было восемь собак, — говорит он. — Двух он накормил, а одна убежала. Сколько осталось?
— Пять, — лихо отвечает Маша.
Мы все хохочем. Машенька смущается. Потом думает и начинает смеяться вместе с нами.
— Если одна убежала, осталось семь, — ехидно говорит Утоюк, и в глазах его светится торжество. Утоюк включает приемник сильнее, и мы садимся за чай. Старикам кажется, что я здесь, в тундре, с самого дня рождения, так давно они меня знают, и они просят рассказать, где же я был раньше, где мои старики. Я рассказываю о Татарии, а Витя подзаводит Машу, говорит, что мой дед работал «чингисханом».
Жарко. Кергитваль снимает кухлянку, и я не могу не улыбаться. На ней тельняшка. Она берет в руки нож, режет мясо, и Витька оглушительно хохочет, когда Кергитваль засучивает рукава.
— Ты капитан нашего пиратского брига, — говорит он старухе.
— Капитан, капитан, — смеется Утоюк.
Эту тельняшку в прошлом году Витька подарил Утоюку. Осенью в бухте были моржи, но Утоюк простудился и потерял голос. Виктор стал вместо старика кричать, подражая хрюканью моржей, и шесть животных вылезло на берег. Утоюк убил всех. Мы вспоминаем этот случай, а Витя и Утоюк начинают по очереди подражать моржам, соревноваться, у кого получится лучше.
— У него лучше, совсем как морж! — подзуживают старика женщины. Утоюк не обижается, нам весело, нам хорошо. Мы дурачимся до поздней ночи, потом ложимся спать. Витя, старик и я — на полу, на шкурах, а старуха с Машенькой — на лежаке.
Пять ночей мы провели в этой избушке, завтра уезжать. Мы с Утоюком ходили в океан, ставили в лунках сети на нерпу. Кергитваль и Машенька починили нам меховую одежду, сшили новые чижи…
Уезжать всегда грустно.
Виктор достает плоскую флягу, там ром, настоянный на смородине, наш неприкосновенный запас. Мы пьем его с чаем — за дорогу, за погоду, за удачу. Машенька и старики сидят тихие, молчаливые.
И ложимся спать мы рано: завтра надо вставать с рассветом.
В изголовье у нас керосиновая лампа, Витя читает, старик спит. Машенька делает мне знак рукой. Я встаю, перешагиваю через Виктора, потом через старика и иду к лежанке, сажусь на пол, у изголовья женщин. Кергитваль спит, и мы разговариваем шепотом.
— Правда? — спрашивает она.
— Да, — киваю я. — Надо уезжать.
— Правда?
— Да, — киваю я.
Я понимаю ее. Не скоро еще гости будут в этой избушке. Трудно человеку, если он знает хоть немного другую жизнь, жизнь поселка, жить в восемнадцать лет на безлюдном побережье.
Но стариков нельзя оставлять, а Куны приедет неизвестно когда. Я говорю ей, что дал Куны адрес моих родителей, и когда он приедет на материк, то остановится у них.