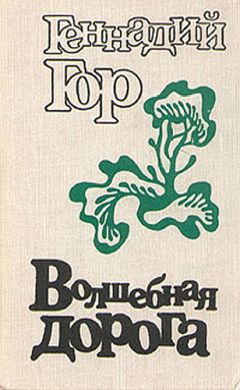Геннадий Пациенко - Кольцевая дорога (сборник)
Лодка стояла в тени под олешиной, заваленная сушняком и сабельным аиром. С какой стороны ни смотри, ее не увидишь. Можно было легко пройти по травяному берегу и не подумать, что здесь, в ручье, наткнешься на нее. В камыше и осоке — куда ни шло, но тащить лодку почти волоком через намытые в устье песок и ил, преодолевать обширное мелководье — требовались и немалый труд, и дьявольская догадливость.
Разгрести песчаную преграду, провести по ней лодку, а в довершение тщательно завалить сухими сучьями и зеленым аиром — мог только человек одержимый.
Теперь же лодку следовало перегнать. Причем сделать так, чтобы Эдвард не обиделся. И чтобы никто из троих — ни Лена, ни он, ни теперь уже я — не таил бы об этом недоброй памяти.
Стежка сейчас была мудрым поводырем. С пригорков она норовила нырнуть в сумрак кустарников и на время упрятать нас, каждого со своими мыслями, а из олешников, наоборот, уводила скорее на открытое, солнцем прогретое место.
Нет-нет да и наталкивался я на вывод, что Серега Никитин, возможно, и знал каким-то образом о проказах бывшего ухажера Лены. Вероятней всего, знал. Знал — и ничего не делал, не предпринимал, чтобы дать созреть и остепениться, а точнее, перебеситься, перекипеть Эдварду. Пожалуй, трогать парня после того, как увели у него девушку, и подавно выглядело бы неразумным. Может, терпение это и ценилось Леной.
Как бы ни было, а возле упрятанной лодки пробыли мы с Эдвардом недолго, куда меньше, чем я вначале предполагал. История наша по существу оказалась комичной и лишь по недомыслию принесшей нечаянное огорчение.
Перед вечером мы уже подплывали к деревне, усердно гребли двумя выломанными в кустах палками. Я — с кормы, Эдвард — как раз с середины лодки. Плыли против течения, налегая на палки, торопясь добраться до деревни, пока солнце не село.
Гребли молча, каждый по-своему переживая то, что случилось немногим раньше, чем сели в лодку. А произошло на редкость потешное.
В устье ручья я один освобождал из-под хвороста лодку. Эдвард наблюдал за моей возней, поигрывая ключом на тесьме. Вертел, ожидая, когда я раскидаю сооруженный тайник. Лодка же сама как бы и не интересовала его.
Неожиданно ключ сорвался с тесьмы и полетел на днище лодки.
Надо было видеть, как вмиг оживился, беспокойно полез за ним Эдвард прямо по хворосту.
Я поднял ключ, радуясь, что он не в воду угодил. Вначале хотел вернуть его Эдварду, но передумал: мелькнула догадка. Я решил вставить ключ в отверстие замка, вдруг да подойдет.
— Верните, пожалуйста, это от дома!.. — запротестовал парень.
Замок без труда открылся. Ничего не сказав, я протянул ключ Эдварду:
— Возьми.
— Надо же. Вот совпадение… — смутился он. — Никогда бы не подумал, что подойдет.
— Случается, — согласился я и не стал ни в чем упрекать его.
Ополоснувшись водой и тем самым согнав с лица румянец, Эдвард взялся выламывать себе палку.
Гребя с двух сторон, мы поплыли к причалу. Еще издали увидели на берегу Лену. Эдвард погреб неистовее.
Я же радостно замахал, давая понять, что лодка — та самая, которую давно ищут. И нет причин для волнений. Хорошо даже, что в лодке нас двое.
Двое — ради двоих.
ВЫСОКИЕ ДНИ[1]
Повесть
Долго рвался он к этому делу, к этому тряскому, будоражному машинному гулу. Руки Родиона попривыкали к колесикам, рычагам, рукояткам, кнопкам еще до работы на станке. Этими руками он всегда в жизни что-то ворочал, крутил, опускал, поднимал — тренировался в армии: станок как танк. Крутишь и правой и левой — подводишь, разводишь, — двигаешь сразу двумя руками. Солдатом полюбил Родион разные механизмы, научился отличать в работе каждый на слух.
Но сегодня был не его станок, а запасной — староватый, стоявший на всякий случай. Его прежний, который он заботливо доглядал, протирал, ублажал почти что, гудел ровнее, был послушнее и налаженнее. Он-то теперь и был разобран. Разложен по частям, каждая деталь порознь.
По выработанной давно привычке руки ложатся на пусковой рычаг, открывают щиток, мигом достают обточенную деталь. Кладут и тут же вставляют новую. Так целую смену.
Нажитым чутьем угадывается под конец смены по станочному гулу время. По тому, как бьется под резцом тонкая жилка огня, как, коротко щелкая, замирает в станке шпиндель.
Разогретые за много часов работы, человек и станок пребывают в одном напряженном ритме. Опережая друг друга, бьются в каждом из них два заряда, две силы. У станка — мотор, у человека — сердце. Словно бы мощью мерятся. У человека есть еще память. У станка же лишь царапины, выбоины, трещины, разного рода отметины — следы, оставленные до тебя чьими-то руками.
Немало пришлось поработать на прежнем станке, пока приноровилась рука, пока свыкся с единственным у незарешеченного окна местом. В вечернее и ночное время мигали в то окно звезды: дивились людскому неугомонному шуму, размеренной суете и словно бы помогали своим мерцанием забыть усталость.
До мелочей все было ведомо, привычно, знакомо там. И споро шла оттого работа. Здесь то поджидать надо, то отпустить что-либо, то подкрутить, а время идет, летит…
* * *На миг поднял Родион голову и тотчас увидел, как приближается проходом Сипов. Как обычно, шел мастер, чуть косолапя, припадая на левую ногу, как бы подтягивал ее.
— Сколько? — спросил он.
— Пятьсот, Анатолий Иванович.
— Дашь еще шестьдесят?
— Не успею.
— Задержись. Без прогрессивки останемся.
И, будто вспомнив о чем-то или чего-то устыдясь, подался Сипов дальше, расслабив рывком узел галстука. На лице вечная озабоченность. А внутри как бы вставлен невидимый механизм: когда идет Сипов, невидимый механизм словно отсчитывает в нем мысли. Шагнул — щелчок. Еще щелчок — еще мысль. Несмотря на возраст, хромоту и приземистость, Сипов расторопен, быстр. Кому непонятна его озабоченность: последняя смена месяца, до конца ее — чуть больше часа. Такой день зовут обычно «высоким»: в цеху выше требования, выше обязательства, выше производительность, выше… аварийность.
Да, работай на своем станке — развернулся бы Родион.
* * *Неподалеку на той же линии менял фрезу Агафончик, шустроватый, с реденькой челкой малый, постоянно весь почему-то промасленный. Можно сказать, сосед, в одной смене работают. На минуту задержал он Сипова, перекинулся словом-другим, посеменил к Родиону.
— Пятьсот штук, говоришь?
— Пятьсот.
— Ну ты да-е-ешь! — Агафончик воровато зыркнул вокруг глазами, подсчитал, царапая подоконник стружкой толкнул в бок легонько: — Карман денег!
Родион отмахнулся:
— Какой там карман.
— Карма-а-ан. Чего уж тут! Заработать мастак ты.
— Да пойми: не могу иначе, медленно. Ну не привык!
— Не можешь?
— Не могу!
— Думаешь, я столько не мог бы?
— И делай себе.
— В тупой резец превратишься.
— Наоборот, острым станешь.
— Язви, язви…
Разговор и разговор, о котором вскоре и забываешь, тем более в шуме и гуле. И, однако, если бы гула не было, а наступил, скажем, конец смены и станки умолкли, Родион не забыл бы сказанного Агафончиком. В словах его он различил бы ухмылку, нарочито не скрываемую. Но пока пересменки не было. Как ни в чем не бывало станки продолжали работать.
На своем прежнем месте, случалось, давал Родион и поболее. Иной раз прихватывал по настойчивой просьбе Сипова лишний час. Ведь дело, если вдуматься, нешуточное — точить запасные части автомобилям. Судя по ящикам, куда только не попадают они. По всему свету расходятся, хватает на целый мир.
На стене — пучеглазые электрические часы. Смотреть не надо. По гулу ясно: вот-вот время кончится. Меняя резец, Родион на минуту взял у Агафончика ключ. Исправный резец — сменщику радость. Сразу пойдет работа.
Зажав болты, положил ключ на край станка у прохода. И забыл. Агафончик же, подойдя, сердито бросил:
— Больше не получишь. Кладешь где попало. Сопрут — ищи потом. С ключами вечно неразбериха, как сквозь землю проваливаются. Идти искать на старое место — некогда. Да и найдешь ли сразу? До того обложили то место шестеренками, что не подойти, не подступиться…
Меж тем как бы ни шло, пи ладилось дело, а две-три бракованные детали за смену отыщется. Измеришь скобой — толщина вроде нормальная, коснешься микрометром — туго, либо, наоборот, свободно. Вот и думай, гадай себе: вроде не брак, но и не деталь еще. Иди договариваться со шлифовщиками: останется чернота после них — запорол. Нет черноты — снял в аккурат, проскочила твоя деталь.
Хуже всего, если пойдет вдруг конус. Натруженный за день станок, пусть даже самый новый, все равно к концу смены разлаживается, сколько-нибудь да «размагничивается». И уж тогда проверяй, гляди в оба. Никакая шлифовка конуса не поможет. Недоглядел — так и запишут, а потом и вычтут.