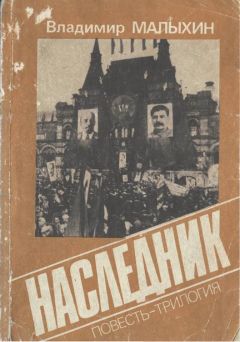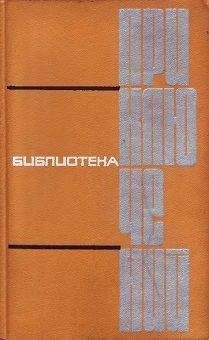Лев Славин - Наследник
(«Сопротивление» было два раза подчеркнуто.)
«… в сущности не было – я говорю про март, про царскую власть. Власть пала сама. Не то будет, когда мы…»
(Подчеркнуто «мы».)
«…будем брать власть. Здесь кровь неизбежна. Здесь будет сопротивление класса. Видел я, значит, еще Катю Шахову. Она эсерка, втрескалась в Керенского, очень хорошенькая. Говорю: «Что же, вы мартовская эсерка?» А она мне отвечает совсем невдопад…»
(Впервые за все время чтения я улыбаюсь, узнав старинную Володину ошибку: с детства он произносил «невдопад» вместо «невпопад», точно так же как вместо «эскиз» – «эксиз», вместо «Лиссабон» – «Либассон» и вместо «виртуоз» – «виртоуз». «Невдопад» глядело на меня добро и насмешливо, как Володькина морда…)
«Вы толкаете Россию в пропасть». Про тебя ничего не спрашивала. Ну, и я, конечно. Говорила, что уезжает в Москву к папаше. Сережа, «Правда» разгромлена. После этой демонстрации пошла контрреволюция. Среди большевиков аресты. Восстановлена смертная казнь. Ищут Ленина. Временное правительство вызвало с фронта верные полки. Черта с два они верные! Между прочим, с этими полками приехали Степиков и Куриленко. Помнишь их? Куриленко я так и не вижу, он все время вертится у анархистов, идиот. А Степиков – наш. Он, между прочим, хочет тебе приписать пару слов. В общем – что ты делаешь? Я работаю в Нарвском комитете. Главным образом по агитационной части. Жду письма.
Вл. Стамати».
Приписка:
«Сергей! Ты паршивец, что не прислал ни звука нам на фронт, но тем не менее, однако, между тем и так далее я тебе семейной сцены делать не буду. Скучаю за Одессой-мамой. Работаю в милиции, работа пустяковая, играемся в городовоев. Думаю плюнуть и драть в Москву, теперь же свобода действия. Куриленко – форменный анархист. Что ты скажешь на этого контрреволюционера?
Аркадий Степиков»,
Отдельно – записка от Гуревича:
«Сережа, здесь, в Питере, есть автомобиль № 996, им управляет женщина изумительной красоты, Я ищу ее все дни. Я ни разу ее не видел. Я хочу в нее влюбиться. Погоды превосходные…»
(…После революции – я замечаю – Гуревич стал выражаться проще…)
«Политикой не интересуюсь. Если прав Флехсиг, который утверждает, что есть лобный ассоциативный центр, который служит местом образования наших представлений о собственной личности, то больше всего я интересуюсь тем – что же хранится под моим лбом? Можешь не отвечать, я уезжаю в Москву. Видел Катю – рожа, беспрерывно говорит о тебе. Изучаю Фрейда и рефлексологию. Иногда даже страшно становится – до того насквозь я вижу людей. Целую.
Гуревич».
Петроград, 25 июля 1917 г,
«Сергей Николаевич! Хотя вы этого не заслуживаете, но я пишу вам. Вы вероломны по отношению к друзьям вашим, как мне сообщил эта крыса Стамати, с которым я столкнулся у Таврического дворца во время преступной попытки большевиков захватить власть 4 июля. Не поздравляю вас с таким другом!
Тут же я встретил вашего второго приятеля – Гуревича. Насколько более приятное впечатление производит этот молодой человек!
Однако не для того взялся я за перо, чтобы описывать черты друзей ваших, хорошо вам известные и без меня. Упомяну только, что они явно недостойны вас, – ни большевичок Стамати, злобный и невежественный мальчуган, ни даже умница Гуревич, при всей своей культуре, поверхностный и непостоянный человек. Ведь я о вас высокого мнения, Сергей Николаевич, хоть вы мне и причинили зло, оболгав и оклеветав Марию Сигизмундовну. Она теперь жена мне. Признайтесь, ваша гордость уязвлена, вы ревнивы в свои девятнадцать лет, как Отелло. Недаром Бонифаций ненавидел вас. Но бог с вами, я не помню зла.
И вот доказательство. Я занимался вашей особой тут, в Питере, в течение всего последнего месяца. И это – несмотря на мою крайнюю занятость, которая еще более увеличилась в последние дни в связи с тем, что во главе военного министерства поставлен Савинков, который поручил мне некоторые дела государственного значения. Вы знаете, разумеется, что в составе нового кабинета – как его называют здесь: «Правительство спасения революции» – пять эсеров. Власть наша, Сергей Николаевич, власть твердая, наконец-то ленинство исчезло с политической сцены, и, могу вас уверить, навсегда. Неужели вы еще большевик? Однако – к делу.
Мне удалось выяснить путем архивных изысканий и расспросов людей, лично знавших Чехова, что драма «Иванов» списана с натуры действительно. Сделана она по заказу антрепренера Корша, который, как кажется, сам и сообщил автору сюжет этой драматической истории, довольно хорошо известной среди помещичьего дворянства Инсарского уезда. Некоторые имена изменены в угоду писательскому пристрастию к курьезным фамилиям, некоторые персонажи вовсе выдуманы автором. Но это из второстепенных. Главное осталось за подлинными именами и во всей своей фактичности. Можно протестовать против использования в литературе личной драмы (несомненно, тут у автора расчет на совершенную неизвестность этой провинциальной истории), но невозможно не удивляться мастерству автора, особенно если вспомнить, что пьеса написана с умопомрачительной быстротой – в две недели! Ваш батюшка – по отзывам его знавших – как живой! Ваше счастье – не знавши отца, вы можете увидеть его в книге. Однако и мне, не скрою, посчастливилось – я знаю сына.
Между нами говоря, Сергей Николаевич, я вознамерился написать этакую историко-литературную беллетристическую книгу, где хочу описать историю создания «Иванова», а далее – историю его живого сына, то есть нашу с вами встречу, графа Шабельского и через это – всю революцию, то есть, вы понимаете, целую эпоху описать, два поколения русской интеллигенции и то, откуда родилась революция. Труд колоссальный – голова кружится! И вот, Сергей Николаевич, вы мне очень сможете помочь любезным сообщением оригинальных черт из вашего детства, из жизни Абрамсонов, Шабельских, некоторых дат, предоставить кой-какие семейные фотографии, письма, – почему бы, черт возьми, не продолжить традицию Чехова описывать живых людей! Вы сразу благодаря мне можете стать самым модным человеком в России.
Но не это еще, признаюсь, главная цель моего письма, несколько затянувшегося, – простите, сейчас кончу!
Сергей Николаевич! Почему вы уклонились от пути, предначертанного вашим батюшкой? Ведь вы интеллигент, да еще потомственный! Почему вы с большевиками? Откуда в вас эти черты фанатизма, это деревянное упорство, эта бездарная прямолинейность? Между прочим, и приятель ваш, г-н Гуревич, удивился, выслушав мое впечатление о вас, и сказал, что это в вас ново. Где отцовская и ваша былая тонкость, где гуманность, где борьба со злом? Вспомните слова вашего батюшки: «День и ночь болит моя совесть». И еще: «Я обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда». Вот эту возвышенную организацию интеллигентской души, с ее повышенной чувствительностью, с ее отвращением к земному, это благородное наследство предков вы променяли на вульгарную цельность большевиков, их дикарский примитивизм, их утробные лозунги – хлеба и мира!
Верьте, дорогой Сергей Николаевич, в мои неизменные теплые чувства к вам. Все равно, если вы даже – чего, по-моему, быть не может – останетесь в большевиках, больше того: если даже – допустим на минуту это невозможное предположение! – большевики восгосподствуют, все равно я напишу мою книгу, но тогда эпиграфом к ней я поставлю слова: «Что мне с того, что я получил весь мир, если я потерял свою душу…»
Жду вашего ответа по адресу: «Петроград, редакция «Биржевые ведомости», мне.
Игорь Духовный».
Одесса, 30 июля 1917 г.
«Дорогой Володя! Получил твое письмо и тоже страшно обрадовался. Знаешь, сколько мы не виделись? Семь месяцев. Но за это время столько было, что кажется – годы. У меня такое чувство, будто я увижу Другого человека. Ты – во всяком случае. Я здорово переменился. Но я боюсь об этом говорить. Боюсь спугнуть эти перемены.
Я – юнкер. Не хотелось идти в военное училище. Но пошел по настоянию организации. «Нам, говорят, нужны свои офицеры». Ну, я тут, в училище, немного завертел машинку. Сколотил кружок. Вообще тут еще силен старый дух. Среди ночи может вдруг разбудить дежурный и сказать: «Юнкер, кальсоны лежат неправильно, извольте выложить штрипками наружу». Цукают. Разумеется, не так, как при старом режиме, когда младшие юнкера возили старших на спине в уборную и там ждали в дверях с бумажкой во рту. Кажется, это им доставляло удовольствие.
Кстати. Катя меня совершенно не интересует. Гуревич – ты прав – кривляка. Он все гениальничает. Духовный мне тоже странен. Да, ужасная вещь! В опубликованном газетами списке провокаторов значится Левин. Вот что напечатано: «Левин Даниил Борисович (кличка «Крафт»), студент, с.-д. Входил в состав местного комитета партии. Работал в охранном отделении с 1913 г. Давал сведения о деятельности областного бюро и работе партийных кругов. Выдал участников военной организации и явочные адреса. По его доносам был произведен ряд арестов. Получал 60 руб. в месяц. Скрылся». Кроме смерти Колесника, я не знаю вещи, которая меня потрясла бы сильнее, чем провокаторство Левина. Я даже первые дни думал уйти из политики – кому верить? – и заняться живописью. Тут один парень уверяет, что у меня есть способности. Но потом передумал. Ах, Володька, столько надо бы рассказать о себе! Керенский, конечно, дешевка. Если ты увидишь Катю, расскажи, как будто нечаянно, обо мне – что я и где. Мне хочется обратить Гуревича в большевики, все-таки это будет приобретенье для партии. Как ты думаешь? В октябре меня выпустят в офицеры. Поеду в Москву. Жму руку.