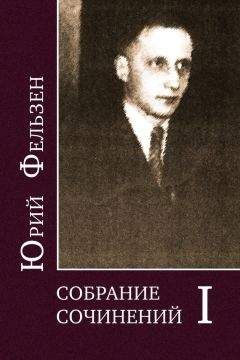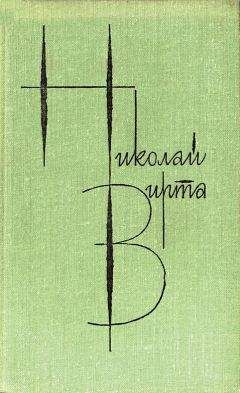Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
Пора установить, в чем же мы так решительно не сходимся. Помните, Вы однажды со мной согласились, что людей надо судить и различать не по их уму или доброте, а по совершенно другому, что важнее всего то душевное навязчивое призвание, которому эти полувнешние свойства подчинены. Я в основе, если можно так выразиться – человек любовного опыта. Детство, начало молодости, время до любви у меня бледное и незаметное – уловление намеков, предчувствия, подготовка. С первой почвенной, невоображенной любовью, с первой ревностью, что-то неизмеримо властное меня целиком и навсегда переделало. Маленькие о себе страхи, слабости и обиды исчезли, ежедневные привычные удобства, уютная болтовня, пустое приятное негодование – все это потускнело и куда-то ушло. Зато каждый поступок, каждая встреча стали осмысленней и сложней из-за сладкой обязанности о них доложить, узнать мнение, найти выигрышное и верное – свое. То, что кажется значительным, проходит через обработку, упорную и прочную – от высшего человеческого, влюбленного, считания – и какое-то возвышение неизбежно. Вы возразите – похожее у всех. Я наблюдал – у других это налетает, как болезнь, и делает их на столько-то времени противоположным себе, удивленным и как бы неответственным. Потом заболевшие выздоравливают, и опять у них появляются мелкие цели, заботы и отвлечения. Успокоившись, дорожа здоровьем, они редко вспоминают, как любили и болели, недолгий опыт стирается. Если вспомнят, рассудительно и трусливо стыдятся. У меня нет этой раздвоенной жизни, смены болезней и здоровья, у меня всегда одинаковая, однажды возникшая и ничем не ослабленная задетость, одинаковое, неудержимое, непрерывное течение. Одно переходит в другое, с ним схожее, его продолжающее. Короткие безлюбовные промежутки едва успевают задержать в памяти, привести в порядок старое – в чем всё их назначение – и уже предвидят новое. Оттого мои годы связаны, жизнь едина: эта связь не в чужой разделенной со всеми «идее», не в борьбе, начатой и прекратившейся, не в семейных радостях, обеспеченных, неминуемо скучных – она сотворена мною, любовью во мне и всегда по-новому, по-острому возобновляется. И чудовищное это время принято, запомнилось без подхода личного и злобного, скорее проясненно – время служения, поисков, огромной жизненной полноты. Мне кажется, я и умирать буду – спиной к смерти, лицом к уходящей жизни, всё еще потрясенный тем, что любил и надеялся, всё еще упрямо надеясь.
Вы неверно меня поймете, если будете думать, что хочу перед Вами хвалиться, Вас в чем-нибудь унизить и превознести свое. Просто объясняю, какое оно, и нет мысли, желания поразить – мне правда сейчас не до того. У Вас, Оленька, всё иначе. Вы не можете любить или должны любить скупо, признавая это падением, слабостью, временем, недостойным себя. Знаете, я невероятно не хотел Вас такою видеть, обманывать свое чутье, прогонять очевидное – из-за трогательной Вашей смуглости, из-за «нарядной бабочки», из-за того, что недостававшее Вам придавал от любовного своего избытка. Потом поверил, смирился, но враждебными, осуждающими словами Вас, новой, не мог себе подтвердить.
Люди плохо любящие должны тратить какую-то силу, им отмеренную, на другое – говорю не о бледных и скучных. Способов растрачиванья много, один из них, редкий, Ваш – литература. Но у этих людей нет защиты от внешнего, всюду проникающего, соблазнительного и богатого мира, нет любовного прикрытия, нет ухода вовнутрь – не искусственного и хвастливого, а того любовного времени, когда только внутри соблазнительно и богато. Они должны принимать извне чужие «общие правила», начатую кем-то борьбу, «идеи», стать на чью-то сторону, добиваться похвалы тех, кто взяты на веру, добиваться прилежно и упрямо, потому что сами себя поднять, повысить не могут, и затем приятен труд, который дается легко, а готовое, предуказанное дается легко, доставляя спокойное удовольствие.
Обратное у людей моего – любовного – склада. У них, часто ленивых и безвольных, вынужденная обязанность останавливать, переделывать, ломать себя и других по своей, с бою добытой, трудной правде, которая разрастается, меняет выводы и основу, но в чем-то – в настойчивой братской ко всему нежности – одна, и которую мы зовем мудростью, опытом, иногда смирением. Откуда взялась эта страстная потребность облагораживать, будить, врываться в покой привычных и милых друзей – и тем упорнее, чем они дороже? От какого повелительного первоначального порыва идут эти огромные вынужденные усилия – ради крохотных достижений? Что-то единственное нам приоткрывается, но не хочу, не буду рассуждать налегке и только пожалуюсь, как от этой неумолимой требовательности к людям тяжело – особенно, если двое и у них замкнутая тесная близость: долго подчиняться такой беспокойной воле нельзя, недоверие и отталкивание неизбежны, и вот – заранее неустранимое мучительное неравенство отношений. Договорим до конца: эта борьба, эти двое – я и Вы.
Теперь не надо и объяснять, как я сужу о Вашей «литературе»: неподвижность, любовная замена, ученичество, правда, не явное и не грубое. Вам повезло – таких учеников приветствуют. Как ни странно, я немного обижен и удивлен, что нет моей учительской доли. И в этом не возношусь, но поймите – мы столько были вместе, так привыкли к одной манере судить людей и подбирать слова, так иногда душевно сливались, что меня вытравить Вы могли только нарочно. Не стоит удивляться – новое доказательство Вашего упорного, злого сопротивления. Знаю – Вы и письму не поверите и всё это объясните отчаянием, завистью, постепенно накопленным мстительным чувством.
Внизу автомобильный гудок – это за мной. Прощайте.Конец записок
Нет, не вижу зависти и мести – Андрей болен, измучен, и я должна ему помочь, как ни запоздала, как ни безнадежна теперь моя помощь. Получила письмо вечером, при маме, прочла и растерялась до слез, до тошноты, так заметно, что мама кинулась ко мне и обняла. Я выпрямилась, оттолкнула, и она, как всегда, не посмела спросить. Вдвоем стало невыносимо – торопясь, не заботясь о впечатлении, я коротко объявила, что сейчас уйду и вернусь поздно. Меня понесло – без видимой ясной цели – в каком-то припадке острой нетерпеливости. Прямо из подъезда вбежала в красное такси с поднятым белым флажком (оно медленно двигалось и не останавливалось), на ходу приоткрыла дверцу и крикнула адрес Андрея – вполне бессмысленно, раз он уже уехал. Странно, задетости, оскорбленности не было, только предчувствие потери, невероятное сознание: к нему нет доступа, он скрыт от меня этим новым, поучительным, ненавидящим тоном, и ничего переменить нельзя. Вот улицы, по которым он возвращался домой, где встречал автомобили и чужих женщин и проклинал свое одиночество. Мне стыдно за свою непонятную безжалостность, и откуда-то страх, что началось горе. Оно идет от разрозненных воспоминаний об уютной, даже издали ощутимой заботливости Андрея, о моей блаженной высоте. И что-то объединяюще-жестокое в очевидности последних лет и нашей нелепой вражды – самолюбивых уступок, неискренних сравнений, душевного грубого торга. Без этого – доброта, дружба, равенство. Но как же я думала раньше? Какая необыкновенная путаница.
Приехали. Оказывается, я всё время надеялась, что письмо не окончательное и наивно ждала «опровержения», которое где-нибудь у Андрея найду. Не представляла, как это будет – тетради, им оставленные, даже милые и обо мне, обратились в прошлое, обескровлены этим ужасным письмом. Нет, я ожидала чуда – записочки посередине стола, подарка, что-нибудь выражающего, хотя бы устного привета.
Консьержка предупредила, что «наверху старый граф». Мне очень хотелось порыться, поискать одной, но не было терпения отложить. Я никогда не видала дядю Андрея. Он показался сперва обыкновенным и добродушным: тяжелые, еще за дверью слышные шаги, толстый, бритый, розовый, в широких роговых очках. Но глаза, как у Андрея, светлые, невпускающие, и неожиданно резкий голос – отрубленные, вырывающиеся, неопровержимые слова.
– Извините за мой pull-over (я бы сама и не заметила). Вы, наверно, та барышня, из-за которой Андрей оставался в Париже. Он кончен – вопрос недель. Никому нельзя мучиться безнаказанно.
Я застыла, одеревенела и откуда-то – из живого далека – ждала несомненного удара. Удар и был нанесен.
– Вот сохранил свои деньги – для кого? Странно, что Андрей не пробовал Вас осчастливить. Так просто – фальшивый брак. Не догадался – это на него не похоже. Да, все живут, а стоит он больше других.
Последнюю фразу он выкрикнул особенно зло и как-то в упор. Потом задумался и отвел глаза – меня почему-то поразило его утомленное, неподвижное, почти оскорбительное отсутствие. Кажется, не произнесла ни слова – и вышла.
Теперь уже ночь – второй или третий час. Пишу в кафе, маленьком, скучном, давно опустевшем. Оно скоро закроется, но нет решимости вернуться домой, захлопнуть за собой дверь, очутиться в плену. У меня одно желание – продлить эту странную свободу. Так бывало с Андреем – мне по-жуткому хорошо в его роли. Настолько в нее вошла, настолько сейчас на стороне Андрея, что воображаю, как сладкую месть, нашу встречу, его упреки и праведное злорадство. Всё сложилось обидно по-иному: мы не увидимся, и чужой случайный человек оказался мстителем.