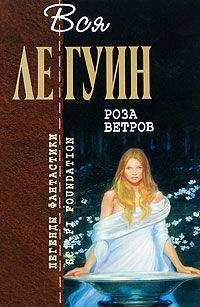Михаил Шушарин - Роза ветров
И Катя Сергеева, пришедшая с Виталькой, показалась Степану ничтожной лгуньей, обманувшей его.
«Соберись, Степка, тебе нельзя расслабляться. Слабых бьют!» — шептал он. И это, последнее, оборвало бечеву мыслей горьких, тоскливых. Он поднялся:
— Извините, что-то голова разболелась. Выйду на воздух.
Он улыбнулся, и люди не заметили даже маленькой тени волнения на его лице. Ночное небо, ветер и теплый реденький снег успокоили Степана. «Давай, Степа, делай очистительное дыхание по системе йогов», — сказал он себе. Внутри заклокотал беззлобный смех: «Ну и везет! Как поговаривает дедушка, шел на казару, а принес гагару».
Степан поднял лицо — снежинки кололи ему кожу. Огромное облако, похожее на айсберг, сдвинулось, и луна пролила золотисто-белый свет. Буран кончился.
Скрипнула избяная дверь.
— Степан Палыч! — это была Галка, голос ее срывался. — Что вы, потный весь, и на сквозняк? Захвораете?
— Ничего. Я ведь моржил, Галя.
— Что делал?
— Моржил. Зимой в Тоболе купался.
— А-а-а… — Она помолчала, потом рванулась к нему и затряслась в рыданиях.
— Тише, Галочка. Что случилось?
— Ничего. Вы скажите ей за ради бога, этой Сергеевой, скажите, чтобы она с ним не ходила… Зачем она пришла? Ведь дите у меня от него будет, а она притащилась. Будь они все прокляты!
Вышла на крыльцо испуганная Феша, шагнула к Степану.
— Не береди душу девке. Не навивай нам горя. У нас его и так хоть отбавляй.
— Перестань, мама, ничего ты не поняла! — всхлипнула Галка.
— Мне, дочка, и понимать не надо. Жизнь прожила, знаю. Чужим людям наша беда — чужа!
— По-по-слу-шай-те! — начал заикаться Степан.
— А что мне слушать?
— Ну тогда извините! — Степан круто повернулся и зашел в дом. — Спасибо, Егор Иванович, спасибо всем за компанию. Мне пора.
— Посидел бы еще, Степан Павлович.
— Не могу, извините.
Он попрощался со всеми за руку, И когда выскочил на улицу, облегченно вздохнул: «Дыши очистительно, Степка». Быстро зашагал вдоль начинающей хмелеть Рябиновки напрямик к школе. Уже за логом, около правления, услышал крик:
— Степан Павлович, постойте!
Вгляделся в темень и догадался: это Сергеева и Виталька. Учительница, распаленная, подошла быстро:
— Как вы смеете? Для чего вы ей напомнили? Она же в обмороке.
Виталька оттеснил ее:
— Отойди, Катерина Сергеевна, я сам поговорю с директором!
Щелкнул в руках складень, упал на снег баян.
И это «отойди, Катерина Сергеевна», и складень, и пуховая перчатка на руке, и запах водки и одеколона, резкий, как душистое мыло, подняли в Степане неудержимую злобу. Он притянул Витальку к себе, заикаясь, спросил:
— Девушку опозорил, а сам — в кусты?
— Какую девушку, извините, маэстро?
— Быстро забыл?
— А ну отчепись! — Виталька рванулся и ткнул Степана в грудь. Степан даже не почувствовал ножа. Он ударил Витальку со страшной силой. Поскользнувшись, Виталька полетел в лог. Следом за ним, хрипя басами, переваливался с боку на бок баян.
— Как вы смеете! — закричала Сергеева.
— Вот так и смею. И зашагал к школе.
…И отец, и все, с кем он дружил в институте и там, на Севере, ни в какое время не ставили на главную жизненную линейку физическую силу… И только здесь… Он тонул… Парень с баяном, сверстник, Виталька Соснин, спасал его. Этот же парень щелкнул складнем, пропорол черную Степанову доху. Зачем он?
Болело левое предплечье. Черт знает что? Неужели? Степан включил свет, сбросил одежду, снял рубашку и подошел к зеркалу. На груди, ниже ключицы, кровоточила маленькая, как оспенный надрез, поринка, бурые кровяные капли медленно сползали вниз, к соску. «Степа, давай первую помощь себе оказывай! Достукался!»
Вышел на кухню, долго шарил включатель. Взметнулся фиолетовый, как молния, свет, вырвал из темноты лицо Кати Сергеевой.
— Ты?
Она не вздрогнула, не пошевелилась. Не сказала ни слова. Степан выключил свет.
— Уходи! — это вырвалось внезапно. — Не хочу тебя видеть!
— Я стою здесь давно, Степан.
— Считаешь, что я не прав?
— Степан Павлович!
Был длинный и нервный поединок.
— Вы черствый человек. Вы знаете только одну вашу волю и силу. Вам ничего больше не нужно.
— Это же ложь.
— Если вы будете так разговаривать со мной, я уйду.
— Уходите.
— Хорошо. Я все расскажу. Тебе первому. Слушай! — В голосе ее слышались мольба и слезы, и Степан это понял мгновенно.
— Вам плохо, Екатерина Сергеевна?
— Нет. Ты слушай, Степа! — Она назвала его так неожиданно и для нее самой и для него. — Извини… Мне уже двадцать три. Я не по годам взрослая. Я помню себя трехлетней. Был май, и к нам в детский дом, в нашу комнату, приходил веселый, ярко начищенный сержант с игрушками. Он приносил конфеты и играл на гармонике: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» Каждую, по очереди, он брал на руки, подымал под потолок, и мы визжали от счастья… А потом был Серпухов… Детский дом для детей, потерявших во время войны родителей. Мы все в то время по-настоящему не осмысливали значения этих слов, потому что нам было весело и сытно и никто нас не обижал.
…Только в институте я поняла свое сиротство и стала думать о родителях. Кто они? Какие? А может быть, живы? Ничего узнать мне так и не удается… Я страдаю от этого, Степа. И приехала сюда, откровенно скажу, для того, чтобы забыть это мое, казалось бы, уже приглушенное страдание.
Подходило утро. Засинел под слабым светом выкатывающегося солнца снег, и в нестылое окно стало видно поскотину и березовый колок. Но Рябиновка спала, убаюканная праздничным хмелем. Лишь на школьном дворе пробормотал с лошадьми четверть часа Увар Васильевич, и все затихло. Степан слушал ее, накинув на плечи черную доху с прорезью и смотрел печальными глазами на желтые нитки настольной лампы, не нужной сейчас совсем, потому что мир заливал начинающийся день. Сергеева вздрагивала, будто от озноба, теребила пушистое ухо эскимоски и говорила:
— Если понадобится вся моя жизнь, я посвящу ее всю поиску своих родителей.
Степан увидел, что держит ее руку, а рука маленькая и холодная. И она тоже увидела это, тихо отстранила его:
— Не надо. Я хотела быть с тобой вместе, чтобы ты мне помогал. Я тебе говорю это открыто. Решай сам: быть тебе моим другом или нет… Лишь другом… А это не надо… Есть у меня в Ленинграде другой человек. И я, кажется, люблю.
— Прости, если я скажу тебе откровенно… Этот, о котором ты говоришь, который живет в Ленинграде… не существует… Ты его выдумала… Ты не могла не выдумать: все другие, невыдуманные, — хуже его… Это правда?
— А ты и рад?
— Я не злой. Вообще не люблю злых филинов. Но меня твои слова задевают, если не сказать больше…
— Это ты растревожил меня, Крутояров… Гордец, зазнайка и какой-то каменный… Боже! Это из-за тебя я пришла к Кудиновым с Виталькой… Видеть тебя хотела…
— У нас мо-мо-гла бы-бы-ть хорошая семья, — начал заикаться Степан.
Она опять как-то странно и нежно вздохнула:
— Не может у нас быть никакой семьи, Крутояров. Потому что ты, именно ты, к этому не подготовлен. Ты живешь разумом, а не сердцем. И ты ранишь меня этим. А я не хочу свежих ран. Хватит мне и одной.
Маленькая рука ее безжизненно лежала на столе, и лицо было скорбным. Она будто прочитала себе приговор и одобрила его с решимостью.
* * *Застонали над Рябиновкой метели. Ветер облизывал синее блюдище озера, сдирал со льда снег, нес его на деревню, набивал на улицах возле домов и заборов огромные суметы, вылепляя причудливые белые карнизы. Днем из-за туч выползало холодное солнце, и буран ненадолго останавливался. Ночью потешался, как и прежде. Утром — опять «перенова» — так охотники называли новый снег, затягивающий старые звериные следы.
Охотники не боялись пурги. Они уходили к дальним камышам и рёлкам, к ондатровым домикам, ночевали в избушках на берегах озер и на островах, возвращались с тяжелыми пошевенками — салазками, нагруженными ворсистыми ондатровыми тушками. Обожженные ветром лица их худели и чернели, и мужики делались похожими на древних степняков-монголов, скуластых, коричневых.
Метели и сильные ветры раскачивали сверкавшие серебром электрические провода, швыряли их вверх-вниз. Схлестнувшись, провода смыкались, и тогда Рябиновка тонула в черноте. Директорская квартира была пристроена к школе. Получалось, что ночью во всем огромном пустом здании в полной темноте сидел одинокий человек, Степан Крутояров, слушал беснующуюся за окном бурю.
Однажды он увидел на потолке желтые отсветы. Выскочил в ночь. На пришкольном участке, среди голых тополей, горела школьная баня. Степан бросал комья снега. Но огонь не унимался… Пожарная машина пришла, когда от бани остались одни головешки.