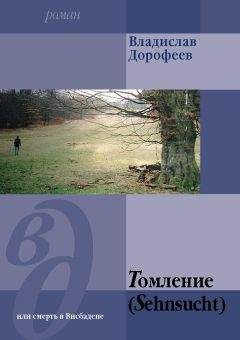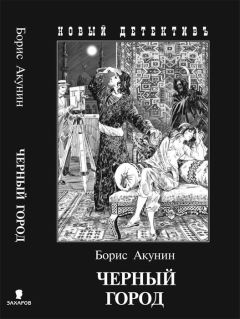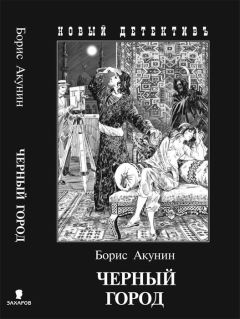Борис Полевой - Глубокий тыл
— Такая уж это война, — сказал он, стараясь рукой отогнать от Жени дым. — У нас в отряде был и немец и австриец — антифашисты, перебежчики, правильные люди. Отряд состоял из окруженцев. Ребята вдоволь побродили по вражеским тылам, фашистских художеств нагляделись, до того стали злые, что от одного слова «немец», бывало, зубами скрипят. А с этими двоими, можно сказать, сдружились. Зато те меж собой будто кошка с собакой. Как сойдутся, австриец — немцу: «Ты мою страну испоганил, нацист!» А немец — австрийцу: «Это твой сумасшедший землячок Адольф Шикльгрубер Германию кровью залил». До драки доходило. Умные, дисциплинированные ребята, а пришлось в разные роты разбросать… — Дед вздохнул. Облако морозного пара сорвалось с его губ. — Нет, девушка, вы на земляков своих не обижайтесь: столько перенесешь — тормоза откажут.
— Я не обижаюсь, но тяжело мне… — сказала Женя и, посмотрев на спутников, добавила — было.
Вдруг Дед вскочил и застучал ладонью по крыше кабины. Машина еще скрипела тормозами, а пассажиры ее, попрыгав за борт, бежали прочь от дороги, перемахивали через кювет и, увязая в снегу, опасливо посматривали на небо. Из шоферской кабины вышел офицер и, оглядев небосвод, спросил удивленно:
— Почему тревога?
— Не тревога, товарищ старший лейтенант, — улыбнулся Дед, — сено я заметил, вон стога… Надо в кузов набрать, путь не близкий, и чуете, сиверко как задувает.
— Дело, — согласился офицер и вместе с партизанами двинулся к стогу. Глубокий снег хватал за валенки, будто пытаясь стащить их. Женя не захотела отставать от других и двинулась за остальными, с трудом выволакивая из сугроба раненую ногу. Добравшись до стога, она набрала охапку поухватистей. Сено дышало ароматом лета. Вспомнился пионерский лагерь, белые палатки, сверкающая на солнце Волга, загорелые тела, звон косы, доносившийся с лугов…
— Синьора, не могу допустить! — воскликнул партизан в кубанке и, выхватив у Жени сено, понес его к машине.
Партизаны не могли забыть, как прыгали из кузова на дорогу. Смущенные, они старались не смотреть друг на друга.
— Учебная тревога прошла удовлетворительно, — улыбаясь, обобщил Дед. — Лихо сигаете, хлопцы. — И шепнул Жене: — Храбрейшие люди, под пистолетом не моргнут, но в отношении самолетов у нас, партизан, так сказать, первобытный инстинкт.
В кузове стало тепло, удобно. От нескольких глотков водки у Жени слегка кружилась голова. Хотелось, ни о чем не думая, так вот ехать и ехать, слушая сквозь дрему неясное звучание голосов, шутки, ощущая знакомую атмосферу боевого братства. Теперь девушка не сомневалась, что поступила правильно, верила, что на фронте ее поймут, не осудят. В душе ее даже затеплилась надежда, что где-то там — она не представляла, где именно, — кто-то поможет ей напасть на след человека, столь трагически ворвавшегося в ее жизнь. С этой мыслью Женя уснула, и так крепко, как, может быть, ни разу не спала с начала войны.
Когда она открыла глаза, машина стояла. Грубо отесанная жердь, как протянутая рука, преграждала дорогу. Партизаны, разминаясь, приплясывали и топали возле шлагбаума. Начальник команды вполголоса переговаривался с часовым. Дед знаком показал Жене, что нужно выходить, а бородатый Батя легко, как ребенка, принял ее на руки и поставил на землю. Машина покатила назад, а партизаны пошли гуськом по хорошо утоптанной, удобной, но узкой тропе, ведущей к деревне, которая виднелась вдали. Мороз окреп. Снег туго скрипел под ногой. Солнце, клонясь к закату, обагряло горизонт, окрашивая все вокруг в оранжевые тона, и в этом свете каждая ветка вырисовывалась с чеканной четкостью. У стога сена, что темнел невдалеке от тропы, Женя заметила странную собачку с красной шерсткой и пушистым хвостом. Та осторожно и, казалось, брезгливо переставляла по снегу лапы. Когда цепочка партизан поравнялась с ней, она неторопливо свернула за стог и, навострив уши, выглядывала оттуда, настороженно приподняв переднюю лапу.
— Мышкует, кумушка, — сказал Батя, усмехаясь в бронзовую бороду.
— Эх, резануть бы сейчас автоматом пару очередей, я бы, миледи, роскошный лисий воротник положил к вашим ногам, — сказал Жене партизан в кубанке.
— Кабы по ней здесь очереди давали, она б так не стояла, — заметил Батя. — Лиса, брат, не мы с тобой, она животное хитрое, под пулю не лезет. А тут она знает, что штабная комендатура охраняет ее от таких вот любителей воротников.
— Хищники нынче сытые, — сказал усач. — Волки раздобрели, что твои кабаны…
Совершенно успокоенная разговором с Дедом, хорошо отдохнувшая, Женя бодро ковыляла, опираясь на палку, вместе с незнакомыми, но по-настоящему своими людьми. Она знала, что эти случайно встреченные люди не оставят ее, поделятся последним и что в конце концов все наладится…
Вечерело. Багровая полоса заката, перечеркивавшая горизонт, уплотняясь, отсвечивала перламутром. Легкие сумерки, надвигаясь с востока, растворяли голубизну снегов. Крыши изб стали золотыми, в одном из окон остро сверкал последний заблудившийся луч, и над деревней зажглась одинокая зеленая звезда.
Едва войдя в селение, Женя сразу поняла, что тут располагается крупный штаб. Провода бежали от забора к забору… Во дворах возле изб белели притаившиеся вездеходы… Под навесами крылец тихо маячили часовые. Румяная деваха в гимнастерке, темной юбке и ослепительно сверкающих сапогах, держа в руках раскаленный утюг, выбежала из дома, к которому сходились провода. Она хотела было продуть утюг, но застыла на месте, удивленно уставившись на группу столь живописно одетых штатских. Глаза краснощекой девицы остановились на Жене, скользнули по шубке и вязаной шапочке с помпоном, по палке с резиновым наконечником, и вдруг, оставив утюг на перильцах крылечка, девушка бросилась назад в избу, из которой доносилось ритмичное стрекотание телеграфных аппаратов. И сразу же в окнах замелькали девичьи лица.
Женя и часу не прождала в избе, временно отведенной партизанским командирам. Раздался скрип сапог в сенях, дверь распахнулась, и на пороге в длинной шинели, в фуражке, странно выглядевшей в зимнюю стужу, в хромовых сапогах появился ее старый знакомец — худощавый, бледный майор Николаев. Как-то очень по-штатски поприветствовал он вскочившего при его появлении начальника команды и, улыбаясь, подошел к Жене.
— А, Мюллер! Вот кого не ожидал!.. Уже ходите? Отлично!.. У вас, в Верхневолжске, теперь тишина, глубокий тыл, а вы на фронт… Да еще с незажившей раной…
— Ой, товарищ майор, тут такое! — В голосе Жени послышались слезы.
Мгновение майор удивленно смотрел на нее.
— Не будем мешать товарищам отдыхать, — прервал он Женю, — идемте к нам в отдел.
Откозыряв партизанам, он увел девушку в другую избу, усадил у топящейся печки и почти приказал:
— А теперь рассказывайте!
Он не смотрел на собеседницу, он глядел на огонь в печи, но Женя чувствовала, что он не пропускает ни одного ее слова. Николаев ни разу не прервал девушку, не задал ни одного вопроса и, лишь когда она, уже успокоенная, закончила рассказ, спросил:
— Что же будем делать?
— Я не знаю… Вот пришла проситься обратно. Майор взглянул на нее, как показалось Жене, даже обрадованно.
— А страх? Страха нет? Вы столько перенесли… Только откровенно, слышите! От этого может зависеть ваша жизнь. В трудную минуту не струсите?
Женя грустно улыбнулась.
— После того, что я пережила?.. Нет.
— Хорошо. Пока я вас устрою к переводчицам. Заночуете у них, а утром вам привезут паек и все, что положено. И думайте, Мюллер, как следует думайте! Сапер ошибается раз в жизни, разведчик не может себе позволить и этой роскоши… Я доложу о вас… А пока я вас отведу на ночлег, и отсыпайтесь как следует.
В избе, где жили военные переводчицы, Женю встретили настороженно. Эти девушки из интеллигентских семей не успели, а может быть, и не хотели свыкнуться с военной обстановкой. Они жили маленьким, замкнутым девичьим мирком, как сокровища, хранили домашние халатики, туфли, платья и, когда кончалась работа, спешили сбросить форму и скорее переоблачиться в них. Изба удивляла чуть ли не хирургической чистотой. На койках поверх тощих интендантских подушек лежали думочки в домашних наволочках.
На большом столе, за которым работали девушки, красовалась в банке из-под свиной тушенки душистая еловая ветвь с золотистой, пустившей смолу и вкусно пахнущей шишкой.
Хозяйские иконы были убраны с божницы, чего в обычном штабном жилье никогда не делали. Вместо них было поставлено овальное зеркало, и перед ним теснились флаконы, баночки и гребешки. При появлении Николаева три девушки в военном встали. Выслушав распоряжение майора о том, что Женю надо надлежащим образом устроить здесь на ночь, они подождали его ухода, и одна из них, ни слова не говоря, стала освобождать койку у окна, забирая подушки, простыни, одеяло.