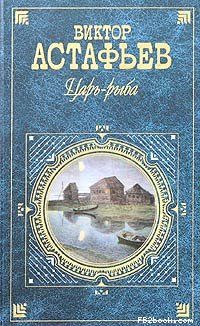Виктор Астафьев - Царь-рыба
Акимка наколол дров. Ребятишки, что постарше, рядком их сложили или под огромный таган с двумя навешанными на него железными коваными крючьями, величиной с печную клюку. Чтобы время шло скорее, Аким еще работу искал и нашел. Вымытые им самим еще вчерашней ночью котлы — один на пять ведер, другой на три — под чай, принялся еще раз протирать вехотью и песком, мало ли что, может, мухи котел засидели. Зараза Касьянка, без нее уж никакое дело не обойдется, почти вся в котел забравшись, шлепается в нем, наводит блеск, напевая тихонько: «Далеко-о-о-о из Калымского краю шлю, маруха, тебе я привет…» — нахваталась в бараке девчушка всякой всячины. Котлы привезены с магистрали — в баню, для тех, что строят самую большую железную дорогу на Севере. Но в баню котлы не попали, понадобились в Боганиде, и их приспособили под варево. И сколько вкусной еды переварено, перекипячено в этих котлах! Попадали в котлы и гуси, и утки, и олешек, случалось, в него заныривал. Скольких людей насытили, оживили, напоили, силой налили и взрастили эти котлы!
Касьянка управилась с делом, вскинула лохматую голову, которая чудом держалась на дудочке ее тонкой шеи, всмотрелась в даль, вслушиваясь при этом напряженно. Кругом все замерли, не дышут — Касьянка самая уловчивая на ухо.
— Е-е-э-э-эду-у-ут! — облегченно, со взрослой, бабьей радостью выдохнула она, расслабляясь всем телом.
— Идут! Идут! Идут!
Ребятишки, а за ними собаки с лаем бросались бежать по чисто вымытому приплеску, оставляя на нем следы, распугивая чаек, навстречу рыбакам. Дети запинались, падали, собаки похватывали их за ноги и рубашонки, те с хохотом отбивались от них. Старшие ребята, сдерживая порыв, оставались возле стана, у них дела.
На скорую уж руку Касьянка еще раз ополаскивала свежей водой колокольную глубь котла. Уронив посудину набок, парнишки выливали воду и, продев в проушины котла железный лом, тужась, багровея, перли чугунную посудину к тагану, вздевали на крюк. Тем временем Касьянка торопливо обихаживала себя, мыла руки с песком, ломаной гребенкой собирала в кучку беленькие жидкие волосенки, форсисто их подвязывала отцветшей косынкой и снова, ругаясь и ворча на «нестроевую команду»: «Погибели на вас нету! Навязались-то на мою головушку!» — той же вехоткой, которой обихаживала котлы, оттирала руки и лица малышей. Поплясывая от боли и жжения, малые изо всех сил крепились, не хныкали, Касьянка делала дело, ворча, раздавая шлепки направо и налево, не забывала, однако, вытягивать шею, будто сторожкая линялая куропатка на ягодниках.
— Токо-токо Стерляжий мыс прошли, — с досадой роняла она, — и че скребутся, спрашивается? Лентяи, ох лентяи пошли мужики! Имя бы токо вино жрать да блудничать. Никуда оне больше не годятся!..
— Че ты понимас? — возражал ей Акимка, — Рыбы много! Тяжело. А ты: музыки, музыки…
— Ну, если рыбы много, дак тогда конешно… — милостиво соглашалась Касьянка.
В рыбоприемнике — в нем, как в конторе: счеты с костяшками, зеленая книжка квитанций, даже календарь на стене есть, еще весы, ящики, много ящиков, бочки с солью, носилки с железной сеткой, чаны с тузлуком, в который бросают рыбу, если за ней долго не приходит катер с большой стройки; к рыбоприемнику этому, отделенному от артельного стола расстоянием, — иначе мухота одолевает едоков, гремя ключами, подвешенными к поясу, гребся приемщик Киряга-деревяга — большой человек.
Низовской енисейский уроженец, он в войну из снайперской винтовки бил фашистов «токо в башку!» — заверял Киряга-деревяга. Один раз он ночь напролет просидел на железнодорожной водокачке, немчуры нащелкал — счету нет! Однако шибко заколенел наверху — ветрено и морозно было, шла зима сорок второго года. Торопился утром Кирюшка скорее в землянку, попер непротоптанной дорожкой, напрямки, через заснеженное поле. Ему махали флажком, орали, но он, остяк дурной, упрямый, никого не слушал. Скорее «домой», скорее, чтоб отогреться и показать винтовку, всю в зарубках на прикладе — столько с водокачки он фашистского воронья нахряпал. Да увидел проволочки в снегу, к проволочкам печатки мыла привязаны. Зачем мыло в снег набросали? Больших денег на базаре мыло стоит. Война! «А-а, — догадался, — немецкий самолет мыло вез фрицам умываться, по нему из зенитки наши как дали, так все мыло и высыпалось». Кирюшка решил одну печатку мыла поднять, чтоб тоже умываться по утрам, да только собрался наклониться, зацепился большим валенком за проволоку, и тут ка-ак ахнет! «Глаза узкие, косые, нисе перед собою не видят, токо в бок широко глядят, голова совсем не соображала — заколела на водокачке, и об одном голова только думала: скорее до землянки добежать, горячей каши поесть, водки выпить, иначе бы он остановился и подумал: како мыло? Зачем и кто бросит тако дорого имуссество?»
Оторвало Кирюшке не только ногу до колена, но и повредило что не надо. У Кирюшки и раньше борода не шибко росла, а после госпиталя он совсем голый лицом сделался. Еще до войны Кирюшка учился в игарской совпартшколе, грамоту знает. С грамотой, даже если у тебя деревянная нога и другая нога без пальцев и вся начинена железом, которое ходит, шевелится в нем, не дает спать, — все равно не пропадешь, начальником будешь. Да вот беда, хворает часто рыбный начальник, нарывают на побитых ногах красные шишки, и криком кричит тогда Кирюшка, бабы льют ему спирт в рот, чтобы оглушить боль. Один раз выкатился из него осколок. Кирюшка его всем показывал — маленький, на уголь похожий осколочек. «Может, последний?» — с надеждой в голосе спрашивал Кирюшка.
Кроме того, что Киряга-деревяга является завом рыбоприемного пункта, он еще депутат Плахинского поссовета, возит оттуда почту, показывает кино, когда праздники или выборы, и говорит речи на всех собраниях.
— Я се могу! — бил себя в грудь кулаком Киряга-деревяга.
— Кое-се, да не се! — поддразнивали его бойкие бабы-резальщицы.
Киряга-деревяга, если пьяный — в слезы иль с кулаками на народ, когда трезвый — бацкал дверью пункта и уходил жаловаться Касьянке. Касьянка больше всех людей понимала и жалела Кирюшку. «Ребенков делать, — говорила она, — всяк дурак сумеет! Тут и ума никакого не надо, а вот кино показывать или речь сказать — пущай попробуют! Тут их нету! А орден красный! А медаль, на которой танк нарисован, „За отвагу!“ называется, у них есть? А значок с красным флагом, гвардейский, весь в золоте! Он красивше еще ордена! А грамота — благодарность, самым главным генералом написанная: „За уничтожение метким огнем врагов социалистической Родины!“ Это у них есть?! Да ничего у них нету! Оне только лаяться, табак курить да водку жрать мастера! Ни стыда, ни совести! Поучились бы у грамотного человека уму-разуму! Повоевали бы с его! Кровь попроливали бы за Родину! Как токо язык поворачивается? Чирей бы имя на такой поганый язык, вот бы ладно было!..»
— Хасьянка! — оглушенный потоком собственных заслуг и добродетелей, тряс головой Кирюшка. — Сто со мной сотворили проклятые фасысты? Я бы твоим отцом бы-ыл…
Касьянка зажимала тряпицей бывшему боевому снайперу нос, сморкаться ему приказывала, и он, что дитенок, сморкался, подставлял лицо, чтоб девочка утерла ему слезы. Обихаживая Кирягу-деревягу, Касьянка заверяла, что он и так им все равно что отец, даже еще лучше. И она, Касьянка, никогда его не бросит. Сделается Кирюшка-фронтовик старый и совсем больной от ран, она его обшивать, обмывать и кормить станет.
— Ой, Касьянка! Ой, глупая! — закатывалась мать, тыча пальцем в Кирягу-деревягу, — он оте-ес?! Совсем ты маленькая девоська, нисе, нисе в семейной жизни не разумес!
Киряга-деревяга не соглашался, лез в спор:
— Хасьянка пускай девочка, а ума больше, чем у тебя, ветренки безголовой…
Спустившись на берег, Киряга-деревяга уединился в рыбоприемник, где у него было уютно; на стене, ровно в клубе, висела почетная грамота, плакаты с нарисованной рыбой и консервными банками, стенгазета под названием «За ударный лов» — нарисовал ее один приблудившийся в Боганиде вертлявый парень, от коллективной работы он увиливал, заботился лишь о культурном досуге артели да обжучивал рыбаков в «очко», раздевая до порток. За пакостное дело: уманил маленькую девочку заезжего охотника-эвенка на кладбище, пытался надругаться — был люто бит и отправлен под надежную охрану.
Широко распахнув дверь рыбоприемника, так, что на стенах шевельнулись плакаты и почетная грамота, на столике в углу распахнулась книжка с накладными и сдунуло на пол черный листок копирки, Киряга-деревяга хозяйски-придирчиво осмотрелся и, тюкая деревяшкой по настилу, сделал один-другой проход, проверяя вверенное ему «помессэнье».
— Хасьянка! Акимка! Ко мне! Бегом! — строго, точно полковник в кино, затребовал он. Касьянка сорвалась и не побежала, прямо-таки полетела на длинных птичьих лапках к большому начальнику. Аким фыркнул, пожал плечами, давая понять ребятам, что никакой ему не указчик Киряга-деревяга, однако тоже последовал в рыбодел. Строго и важно осмотрев ребят, как бы оценивая взглядом, можно ли доверить такому народу ценности, Киряга-деревяга достал из-под стола берестянку с солью, баночку с лавровым листом и перцем-горошком.