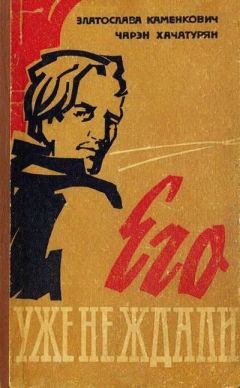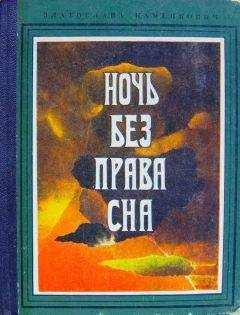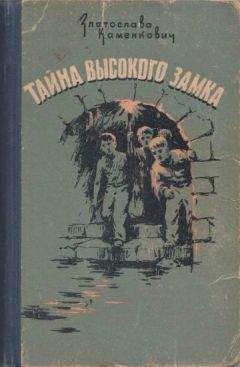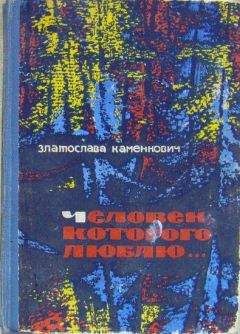Златослава Каменкович - Его уже не ждали
Наконец, она не выдержала и заметила вслух, что час расставания с господином Калиновским опечалит всю семью.
Ярослав ответил, что ни даль пути, ни границы, ни ветры, ни грозы — ничто не в силах оборвать узы дружбы, если люди душевно становятся близкими друг другу.
Самым обольстительным голосом маменька принялась описывать их богатый дом в Тифлисе. О, Калиновский просто осчастливит их, если вместе с матерью приедет к ним погостить.
— Ваша маменька не будет у нас скучать. Андраник Аветович большой знаток искусства и литературы. Превосходный пианист. Ах, как артистически он исполняет Шопена и Листа! — расхваливала она мужа.
Каринэ, покусывая травинку, наблюдала за отцом. Ей казалось, взгляд его, обращенный на Калиновского, говорил: «Вы мне глубоко симпатичны. Нет, нет, меня нисколько не волнует, состоятельны вы или нет. Но если бы вы, молодой человек, при всех ваших достоинствах были бедны, моя жена дала бы вам понять расстояние между ее дочерью и вами. С каким презрением она бы оттолкнула вас…»
Каринэ встала и со стесненным сердцем отошла к липе.
До отхода поезда оставались считанные минуты. Каринэ была задумчива и бледна.
«Не захворала ли?» — маменька встревоженно коснулась лба дочери.
— Ах, что вы говорите, маменька, я здорова, — вспыхнула Каринэ.
Отец всегда лучше понимал Каринэ. Взяв ее за подбородок, он потрепал дочь по щеке и с теплой лаской в голосе сказал:
— Не надо печалиться. Разлуки и встречи украшают жизнь.
Каринэ протянула руку Ярославу.
— Прощайте…
— Нет, до свидания, — Ярослав удержал руку девушки. — Я буду всегда рад нашей встрече. Обещайте мне писать, не хочу бесследно исчезнуть из вашей памяти.
Если бы он только знал, какую бурю в ее сердце вызвали его слова! Но она, не поднимая глаз, проронила вполголоса;
— Да, я вам напишу.
Последняя минута всецело принадлежала маменьке, которая обрушила на детей целый водопад наставлений:
— Боже сохрани с кем-то знакомиться в поезде, — это относилось к Каринэ.
— И не смей выскакивать на станциях в буфет или на базар, — грозила пальцем Вахтангу. — Я знаю, какой ты непоседа! Не позволяй ему покупать в дороге молоко, — с надеждой обращала взор маменька на Каринэ. — Мытые фрукты в плетеной корзинке.
— Я помню, помню, — отвечала Каринэ.
Обычно Вахтанг в подобных случаях всем своим видом давал понять, что страшно разозлен, обижен. В конце-то концов, до каких пор маменька будет считать его ребенком, которого все время надо опекать! Это ему портит настроение, отравляет последние минуты расставания.
Однако сегодня (маменька это сразу подметила) Вахтанг почему-то не бросал своих выразительных взглядов то на нее, то на папеньку, то на сестру. И в глазах его почему-то не сверкали мрачные огоньки. И не высказывал обиды… Удивительно!
Растерявшись, маменька на какое-то мгновение замолкла, вглядываясь в лицо сына. Да, сегодня он какой-то странный. Если бы не дела в Вене, она ни за что бы не отпустила детей одних.
Стоя на площадке вагона, Вахтанг потупив голову рассматривал кончики своих ботинок и по-прежнему совершенно хладнокровно выслушивал маменькины «боже сохрани… боже упаси… не дай бог…», ибо какое теперь это имело значение для человека, который рвался поскорее пересечь границу, дабы помочь русским революционерам? Лишь чувство досады вызывала Каринэ, которая на перроне разговаривала с Калиновским. Вахтангу казалось, будто именно из-за сестры так долго не отправлялся поезд.
И вот наконец вагоны тронулись.
Маменька, тяжело дыша и все время хватаясь руками за сердце, что-то на ходу советовала, будто ее слово могло отвратить ту беду, в которую все же попали на границе Каринэ и Вахтанг.
Шесть дней спустя, когда Ярослав приехал в Карлсбад, где лечилась Анна, глаза сына, как всегда, сказали ей больше, чем слова.
Нет, конечно же нет! Анна и не думала упрекать сына в душевной незащищенности. Разве не так она сама когда-то полюбила его отца? Именно так, с первого слова, с первой минуты знакомства. И никогда, никогда потом не жалела. Лишь теперь, когда его нет в живых (с этой мыслью Анна примирилась), она сожалела, что они мало времени были вместе, что мало ей пришлось отдать ему своего внимания, своей любви среди повседневных забот и опасностей.
Лицо Анны, озаренное дорогими сердцу воспоминаниями, как и в молодые годы, было сейчас необыкновенно красивым.
— Славик, еще не видя Каринэ, я ее люблю. Хочу, чтобы вы поскорее встретились. Я буду очень рада.
— Благодарю тебя, мама, — отозвался сын.
И вот, наконец, мать задала ему вопросы, на которые рано или поздно нужно было отвечать.
— Ты нашел Марту? Говорил с ней? Она помнит нас? Ты помог ей? Узнал что-нибудь о семье Омелько?
— Понимаешь, мама… — начал было Ярослав и осекся, не зная, как начать печальную историю Марты.
Анна быстро подняла на него глаза.
— Да, Славик, я тебя слушаю.
— Я был в Зоммердорфе. Но в низеньком домике с черепичной крышей, где когда-то жила Марта, теперь живут другие… В небольшом сельском баре, куда меня загнал неожиданный дождь, словоохотливая хозяйка, подав мне чашку кофе и кусок чудесного бисквита, сразу полюбопытствовала: откуда я, какие дела меня привели в Зоммердорф. Я сказал о цели моего посещения. Лицо женщины вдруг погрустнело, затем помрачнело, как на похоронах. Она отвернулась, осенила себя крестом, но я успел заметить и то, как она поспешно отерла глаза тыльной стороной большой жилистой кисти.
«Всякий, кто считает, что он твердо стоит на ногах, — сказала она, — должен быть осторожным, чтобы не оступиться. Конечно, я близко знала фрау Дюрер и ее дочь Марту. Слава богу, с фрау Дюрер мы прожили по соседству без малого шестьдесят лет, прожили в мире и полном согласии… А когда Марта собралась уходить в город на заработки, помнится, я предостерегала: от города добра не ждите». — Она умолкла и немного погодя опять заговорила: — Нет, право, ведь это же до сих пор у меня в голове не укладывается… Марта была девушка скромная, всех покоряла своей приветливостью, своей доброй натурой. И заметьте, молодой господин, она была набожна… Как же ты могла забыть бога, забыть стыд и честь? А иначе сгинет твое доброе имя… — она словно забыла про меня и говорила с глазу на глаз с Мартой. — Он сын хозяина ресторана, а ты? Надо знать свое место в жизни…»
Я напомнил ей о себе, спросив: «Скажите, где Марта теперь?»
«О, пути господни неисповедимы, молодой господин, — закивала она головой. — Кто знает, может быть, наш добрейший господь вовремя дал ей приют на дне Дуная. Ведь позор, позор-то какой, если бы у нее родился ребенок… И пришла бы она с незаконнорожденным в отчий дом… Что сказали бы люди?.. Вот и фрау Дюрер не вынесла удара, и месяца не прожила, потеряв дочь…»
В то время как Ярослав, сидя около матери на скамье в парке, рассказывал все это, взор Анны машинально скользил по цветам нежно-белых и ослепительно красных цикламенов, густо обрамленных темно-зелеными листьями. И хотя великая художница-осень уже прикоснулась своей волшебной кистью к листьям кленов и развесистых каштанов, зажгла пожары на увитых диким виноградом стенах и балконах виллы у большого фонтана с Дианой,[45] все еще по-летнему блистала красотой масса цветов.
— Я не хотел тебя печалить, мама, — развел руками Ярослав. — Поэтому сразу ничего не сказал о Марте.
— Трудно примириться с тем, что из-за какого-то дрянного, лживого человека Марта лишила себя жизни, — вздохнула Анна. — А у этого негодяя, так безнаказанно обокравшего юность и любовь доброй, смиренной, доверчивой девушки, вероятно, только и было преимущество — богатство. И когда в конце концов у человечества появится закон, который защищал бы нравственный капитал женщин с такой же силой, с какой он защищает материальное достояние имущих? Подумать только, вора, который украл ценности, карают с беспощадной строгостью, а где закон, осуждающий лиц, похищающих честь и будущее женщины? Где закон, который ограждал бы от позора и гонения хотя бы несчастных детей — жертвы чужой вины, чужого преступления?
— Не за горами то время, когда деньги, золото уже не смогут скрывать в человеке всякое уродство и порок, — убежденно сказал Ярослав. — И тогда молодости не придется мириться с насилием над чувствами. И в жизни не будет места обману, жестокости, грубости. Не нужны будут суды и свидетели, обличающие зло. Обличителем и свидетелем будет сам человек, его собственная совесть. Я верю, мама, что нашему поколению суждено создать такое общество.
Анна с обожанием посмотрела на сына. Как он возмужал. Теперь за каждым его словом чувствовался принципиальный ум, сильный характер, целеустремленность.
— Мама, я проголодался, — вдруг сказал Ярослав.