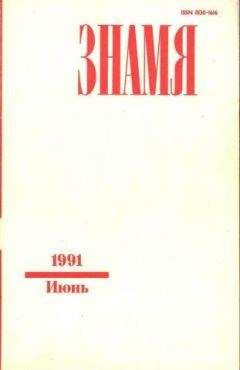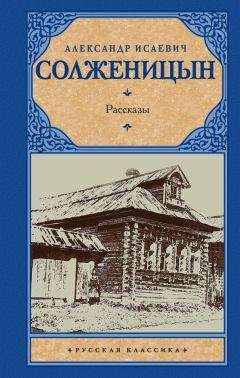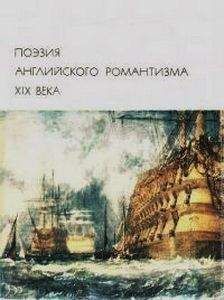Виктор Московкин - Золотые яблоки
В ответ преподаватели написали письма в разные инстанции, в которых, между прочим, осуждалось непринципиальное поведение проректора.
— А еще вот какая история…
Вася не сбавлял скорости и не закрывал рта. Он не заботился, слушают ли его.
— После трудов праведных надо ведь по капельке… Припасем, что надо, и — прямо в гараже. Дверь не всегда закрыта. Зачем? И залетел к нам соседский, Марьи Копилиной, петух. Ко-ко-ко… Дескать, меня примите. А нам что, не жалко. Хлеба накрошили, облили водкой и цып-цып… Все склевал. Наутро, смотрим, пришел похмеляться. Ах ты, думаем, такой-сякой. Ладно. Еще ему… Так и повадился каждый день. И думаешь что, наклюется, а потом идет кур гонять. Только перья по копилинскому двору летят. На все сто был петух, до животиков хохотали… А хозяйка не поняла. Зарубила петуха…
…Иван Трофимович выложил перед Дерябиным преподавательские письма. «Порядка там нет, в институте», — вырвалось у Дерябина. Иван Трофимович внимательно глянул на него. «Надо навести порядок. И лучше, если наведете сами». Сказано было таким тоном, что у Дерябина будто все оборвалось внутри. «Не понимаю», — проговорил он. «А вы подумайте». Теперь-то он подумал…
— Значит, зарубили петуха? — сонно переспросил Шаров, приглядываясь, где едут. Вася выруливал на главную улицу районного центра.
— Зарубили. — Вася тряхнул густой шевелюрой и бодро добавил: — Ничего, на наш век петухов хватит. Нового готовим.
Возле белокаменных торговых рядов на стоянке приткнулось несколько машин и автобус. Вася притормозил.
— До чего кстати, — удивился Шаров, разглядывая автобус. — А ведь это тот самый, из которого нас выгнали.
Оба торопливо вышли из машины, надеясь как-то заявить о своих правах, но еще не зная, как заявлять. Правда, им и шагу не пришлось сделать: шофер автобуса вдруг открыл дверцу, спрыгнул с подножки и поспешил навстречу. Было ему под сорок, пряди слипшихся темных волос спадали на морщинистый лоб, серые глаза воспалены.
— Товарищ Дерябин, вы меня уж простите, — виновато заговорил он. — Ну, не видел! Маруська спорит, подумал, обычные безбилетники… После только сказали, что были вы…
Дерябин стоял с каменным лицом, и его неприступность еще более пугала шофера.
— Черт знает, как произошло. Поверьте, такое у меня впервые. И все эта кондукторша, Маруська… Не любят ее у нас. — Шофер повернулся в сторону автобуса, где была та самая злосчастная Маруська, желваки ходили на его скулах. Должно, будет Маруське на орехи.
— Ерунда какая-то, — брезгливо проговорил Дерябин, открыл дверцу и сел в машину. — Трогай, Вася, — сказал он словами Шарова.
Тот пожал плечами, явно не одобряя строгость своего пассажира. Из обрывочного разговора он начинал понимать, что Дерябин — какой-то начальник и шофер автобуса провинился перед ним.
Газик медленно стал выворачивать на дорогу. И когда проехали последние дома, Вася спросил Дерябина:
— Зачем вы с ним так? — в нем говорила шоферская солидарность.
— Нашкодил, так умей хоть держаться. Унижаться-то чего?
— Чего? — переспросил Вася, удивляясь непонятливости пассажира. — Да знаете, о чем он сейчас думает? Вот нажалуетесь вы управляющему, и выкинут его вон. А у него хорошая работа, семья, детки… Придраться всегда найдется к чему. По нужде лебезил, вот чего…
— Первое умное слово от тебя услышал, Вася! — торжественно сказал Шаров. Давай дальше, нам еще ехать и ехать.
— Мне что, — отозвался Вася. — Были бы тити-мити…
* * *
— Это квартира Шаровых?
— Вы не ошиблись. Между прочим, впервые за утро…
— Приветствую тебя, Сашенька. Клава Гурылева.
— Здравствуй, маленькая женщина. Почему-то я ожидал, что ты мне позвонишь. Опять что-нибудь в институте, и редактор просит, чтобы я посмотрел и сказал, могу ли по письму сделать статью.
— И да, и нет. Статья уже написана и завтра идет в номер. Она об институте…
— Кто же тот несчастный, что отбивает хлеб у бедного литератора? Я вызову его на дуэль и убью.
— Статья называется «За связь науки с практикой», подписана проректором Дерябиным. Это что-нибудь тебе говорит?
— Ой, Клава! Ну, знаешь, я был наивен и глуп, когда…
— Сашенька, я тебе уже говорила, что это было давно, и я не сержусь.
— Ах да, ты об этом… Спасибо, что позвонила. Я обязательно прочту статью «За связь науки с практикой». Он сам принес ее или прислал по почте?
— Ее принес курьер, и редактор распорядился сразу же дать в номер.
— Он всегда отличался оперативностью. И в этом его сильная сторона.
— Кому больше знать, мне или тебе, какая у него оперативность. Слава богу, скоро десять лет, как я под его началом.
— Это ты о редакторе?
— О ком же еще! Не такой-то он решительный, как ты думаешь.
— Клава, мы сегодня что-то плохо понимаем друг друга. Не перенести ли нам разговор на завтра, когда я прочту статью?
— В чем же дело, ты знаешь, Сашенька, что твоя воля надо мной неограниченна. Давай перенесем разговор на завтра.
— До свидания, маленькая женщина!
— Будь здоров, Сашенька!
Тайка
Тайка сунула босые ноги в старенькие туфли, пригладила волосы рукой и, оставив Егорку забавляться с куклой, вышла на крылечко.
Мимо дома шла дорога — от леса к селу Ивановскому и дальше в город. Пока на ней — ни души. Но Тайка знала: сейчас покажется Роман. Выйдет из леса и свернет у риг, срежет прямиком по стерне, чтобы не встречаться с нею. Роман ходит тут с самой весны, с тех пор, как устроился в городе, на крахмало-паточном заводе. На выходной вечером идет с работы, в понедельник утром — обратно. Два раза в неделю. И два раза в неделю Тайка караулит его. Презирает себя и бегает, боясь прозевать.
Солнце еще только поднимается, сушит потемневшие за ночь крыши домов — их в деревне всего десяток: шесть по одному порядку, четыре по-другому. Когда-то порядки были длиннее, об этом напоминают замусоренные щебнем и заросшие репейником ямы — многие перебрались в Ивановское, где контора колхоза. Когда-то здесь также был клуб, и Роман приходил сюда, и Тайка танцевала с ним…
В росной траве туфли сразу намокли, зашлепали. Шлеп-шлеп — до самой риги, полуразвалившейся, с несколькими жердинами вместо крыши.
Тайка не обманулась: едва перевела дух, из леса показался Роман. В руке сумка, скатанная валиком. По субботам он носит в ней хлеб. А сейчас сумка пустая.
— Стоишь? — не глядя и привычно спрашивает Роман.
Тайка смотрит на него спокойно и внимательно.
— Может, зайдешь, Ромаша? — несмело просит она.
— Еще не хватало, — угрюмо отвечает Роман. Нарвал пучок травы и стал обтирать заляпанные грязью голенища кирзовых сапог — лесная дорога не просыхала и в жару. — Вообще, сказал, не встревай. Я вольная птаха. Поняла? Скоро совсем в город перееду.
На лице у Тайки испуг, руку она прижала к горлу, словно ей трудно дышать.
— Как же так! И не покажешься?
— Может, в праздники…
Из Тайкиной груди вырывается вздох облегчения.
— Ромаша, — опять просит она. — Петушка-то на палочке обещал Егорке.
— Некогда с тобой, — будто не слыша, отвечает Роман. — Еще на работу опоздаю. — И торопливо обходит ее, отворачивает лицо.
— Хоть бы раз взглянул на свое дитя, черт квелый! — уже ругается Тайка. — Ведь клялся же!
— Ну знаешь, все бывает под пьяную лавочку. Полюбились, побаловались. И никаких прав ты на меня не имеешь: мы не расписаны.
— Разве в этом дело, — тихо говорит Тайка.
— Не обязан! — злится Роман, чувствуя свою неправоту. — Вольная птаха! Хочу женюсь, хочу нет, хочу на тебе, хочу на другой. Нынче заведено — два раза жениться, — с усмешкой заканчивает он.
В глазах у Тайки слезы. Она покорно плетется домой, вспомнив, что надо кормить Егорку.
— Вот и видели мы папку, — воркует она над люлькой. — В субботу он пойдет из города и гостинец занесет. Петуха на палочке…
Егорка мало смыслит, что говорит мать. Он тянется пухлыми ручонками к ее покрасневшему носу и смеется.
А Тайка продолжает рассказывать:
— Папка в город переедет и нас возьмет. Будем жить в каменном доме. Я тебя на каруселях покатаю.
Егорке удалось схватить ее за нос, теперь уже смеется и Тайка. Слезинка скатывается с ее щеки и падает мальчику на руку.
В избу, не постучав, вошел бригадир Федор Куликов с полным картузом грибов. Картуз у него с синим околышем, весь выгоревший, привез еще с границы, где Федор служил. Он сел на лавку и стал отбирать в решето упругие коровки, скользкие маслята — какие получше.
— Выброшу! — зло сказала Тайка.
— Выбрасывай! — согласился Федор, — завтра наберу еще.
Федору за тридцать, он в полной мужской силе, мускулистый, с широкой грудью и бронзовым от ветра и солнца скуластым лицом. Выделялись на этом лице голубые, добрые и не то стеснительные, не то печальные глаза. Но Тайка знала, что эти глаза могут загораться и злым, страшным огнем.