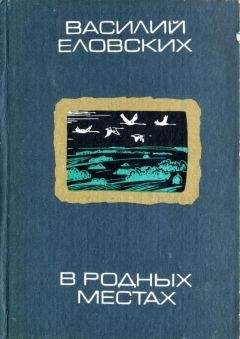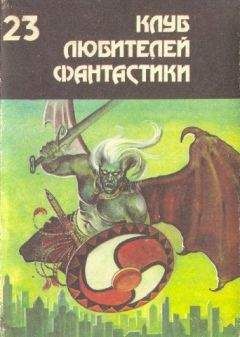Василий Еловских - Старинная шкатулка
Бежит, бывало, Вера Петровна со станции, а сердчишко — ек, ек, ек!.. Так это радостно екает. А последние годы не екало; голос у нее становился какой-то неуверенный, робкий, наверное, от длинной дороги и от усталости, ничто здесь уже не волновало ее, она была как каменная, и от этого неприятно; старые чувства еще помнятся, и теперешняя холодность и безразличие пугают ее, она не может найти им объяснения, кроме разве что одного — стара стала, стара. Сейчас, понятно, болеет отец. Но ведь так было и в прошлом году, и в позапрошлом…
Много раз писала отцу: «Переезжай ко мне» и, бывая здесь, подолгу уговаривала его, но старик сердито упрямился, даже удивлялся: «На вот!.. Чо это я поеду куда-то к черту на кулички. Чо боровишь-то? Здесь я привык. Здесь меня все знают и уважают».
И вот получила телеграмму от сестры: «Папа тяжело болеет. Приезжай». Отец был здоровяком, знать не знал никакой хвори, и слова «тяжело болеет» настораживали и пугали.
Зайдя в новый, незнакомый ей магазин, она купила овощей и яблочного сока — то и другое, говорят, полезно старикам.
Дверь открыл племянник Леонид, длинный, худой паренек, который, видать, стеснялся своего роста и потому сильно горбился и походил на чахоточного. И, вообще, он был как бы не от мира сего: молчалив, робок, забит, погружен в какие-то свои мысли и мечты — бледная тень человека.
— Как с дедушкой?
— Плохо.
— Что с ним?
Леонид жалко пожал плечами:
— Не знаю.
— Как «не знаю»?.. А что врачи говорят?
— Возраст… говорят.
— Но ведь ходил же он. Какая болезнь-то?
— С сердцем что-то, говорят.
Отец валялся на кровати, и Вера Петровна подивилась, как он тяжело, беспомощно и некрасиво лежит: штаны сползают, распухший, чуть иссиня живот оголился, щеки обвисли, губы, особенно толстая нижняя, с белой пеной в углах, нелепо оттопырены. Дышит быстро, тяжело, с натугой.
— Давно уснул?
— Да он что-то спит все больше.
— А ночью кто с ним?
— А… никто.
— Да как же так? Мать-то дома?
— Дома.
Ей вспомнилось, каким он молодцом был когда-то: вышагивал по-солдатски уверенно, прямо, и даже старенькая роба, в которой ходил на фабрику — черная замасленная куртка, такие же черные замасленные брюки выглядели на нем как-то необычно солидно, внушительно. Всегда гладко выбрит, ботинки начищены-надраены, выходные брюки проглажены, выходная рубаха белехонька. И знакомые бабы говорили мачехе на забавном местном наречии: «Твой-то одеватса — уди тебе как! Чисто всем пригожий». А сейчас Вере Петровне было больно глядеть на отца.
Леонид ушел. Вера Петровна оглядела квартиру: боже, сколько пылищи кругом, домотканые половики, шторы и скатерти, видать, давным-давно не стираны, булка хлеба на столе покрылась плесенью, а молоко в бутылке на подоконнике уже прокисло. Быстро прибралась на кухне, помыла полы, сделала винегрет, и тут проснулся отец.
— Здравствуй, папа!
В детстве она звала его тятей, потом стала звать папой (почти все в округе звали отцов папами и подсмеивались над ней). Но слово «папа» было непривычно, и многие годы как-то стесняло ее, будто она произносила что-то нехорошее. Сейчас ей почему-то хотелось назвать его тятей.
Она приподняла старика. Но он сидел неустойчиво, неуверенно, как младенец.
— Ве-ру-ня! — Нижняя губа у него мелко-мелко задрожала. — Плохой я. Видно, смерть пришла.
Последние слова он произнес совсем просто, будто говорил что-то обычное: «Ну, как доехала?», «Как седни на улице, не шибко холодно?» Она стала успокаивать его: они завтра же вызовут самого лучшего врача, который разберется в его болезнях (сейчас медицинская наука вон на каком уровне!), выпишет лекарства, скажет, что надо есть и пить, и все пойдет на лад. Старалась говорить убедительнее, бодрилась, гладила отца, с горечью чувствуя, что бодрость получается слегка принужденная (а может, только казалось так?), сердилась на себя, и снова говорила, говорила, сразу поняв, что отцу действительно плохо.
— Да приходят доктора. И вон они лекарства. — Он махнул рукой так, будто это были не лекарства, а отрава. — Восемьдесят восемь — шутка в деле.
Он всегда был смелым, отец; если дрались на улице пьяные, где-то муж колотил жену, кто-то дебоширил, бежали за ним — он не побоится, пойдет и любого утихомирит. Он всегда был весело настроен, и теперешняя его подавленность пугала Веру Петровну: человек живет, пока он бодр, пока хочет жить, пока верит в то, что будет жить. Надо было как-то сбить с него эту подавленность.
Он тоже много говорил, с трудом, правда, и каким-то не своим — очень хриплым, с натугой голосом; хрипота исходила откуда-то изнутри, из глубины горла, там у него было что-то лишнее, мешающее говорить. Речь непонятна, можно различить только отдельные слова. И Вере Петровне приходилось переспрашивать его.
Пришла сестра, Зоя Петровна, как всегда аккуратная, скромно и приятно одетая, на лице озабоченность. У нее на лице всегда озабоченность. Даже в голосе озабоченность.
— Вера!.. — Подошла, припала к плечу. Скорбно вздохнула. — Ты покормила папу?
— Да. Но он что-то плохо ест.
— Он теперь все время плохо ест. Уж как прошу… Не знаю, что и делать.
— А что врачи говорят?
— Возраст, говорят.
— Далось вам! А болезнь-то какая?
— Старость, дескать. Соседка вон вчера и говорит: «Вы чо это как мало ему готовите?» Кажется, и в самом деле думает, что мы его не кормим.
«Тебя, видно, больше беспокоит то, что говорит и думает соседка».
— Каждый день спрашиваю: «Ну, что ты хотел бы поесть?» А он: «Ничего не хочу».
Когда они были на кухне, Вера Петровна сказала:
— Он очень тяжело дышит.
— Ну, что ж ты хочешь? Столько лет. — Помолчала. Вздохнула. — Он уже отжил свое.
— Как ты нехорошо говоришь.
— Ну, почему, Вера? Такой возраст. От старости нету лекарств.
— Все это не от старости, а от какой-то болезни. Как ты не понимаешь?
— Не шуми. Врач говорит, что у него совсем плохое сердце. Аритмия, так, кажись, называется. Общий склероз. И еще чего-то. Я не знаю, я не медик.
— Надо лечить.
— Лечат. Только проку-то. Он медленно умирает. Что теперь делать? Все помрем когда-то.
«Какой вежливый и равнодушный голос».
— Ты надолго приехала?
— Ну, сколько надо будет, столько и поживу, — ответила Вера Петровна и подумала: «Ты только этого и ждешь».
Сестры! Какие они сестры. Только считается, что сестры. Ничего общего. Зоя с раннего детства была тихоней, хныкалкой и ябедой, любила подмазываться к отцу и матери. А Вера была бойкой и прямой. Помнится, постная рожица Зойки смешила ее, и она, бывало, шутки ради, возьмет да и щелкнет сестренку по шее или пнет ее в сидячее место, так, слегка, одно название, что щелкнула, пнула. Шуму!.. Зойка ревет, мачеха орет, бежит за падчерицей с ремнем, палкой или скалкой — что попадет под руку. Падчерицу она не любила, что уж говорить, смотрела на нее без утайки как на чужую; самый вкусненький кусочек — Зое, самую грязную, тяжелую работу — Вере. Прямо как в старых сказках о Золушке. И хоть бы постеснялась и делала свое дело незаметно, нет: «Зоя, на-ка, поешь. Вкуснень-кое!», «Верка! Ты чо тут расселась? Кто за тебя робить будет? Морда кирпича просит, а все как робенок!», «Отец! Лупить надо, эту Верку…» И если бы не отцово заступничество («Да успокойся, мать. Ну, повздорили девчонки маленько, помирятся»), было бы худо. Отец на заводе, а мачеха-то дома все время…
Жить с мачехой не хотелось и, кончив семилетку, Вера подалась в областной город. Ну, а потом чего только не было: работала токарем и занимала койку в бараке (сырая, вонючая комнатушка на шестерых), побывала на фронте, после войны вышла замуж и уехала с мужем в Забайкалье, где долго мотались по частным квартиркам, жили в убогой хатенке-насыпушке, кое-как слепленной из досок (земля между досками осела, и стены были мокры, склизки, холодны). С полгода ели гнилую картошку и болтушку из муки. Муж в этой хатенке-насыпушке и помер. В армии — траншеи, землянки. И — ничего. Будто так и надо. Даже вспоминать вроде бы приятно. А вот после войны тяжелая жизнь раздражала ее. И обижала. Когда она заочно окончила техникум, когда ей перевалило далеко за сорок и волосы стали наполовину седыми, фортуна повернулась к ней: Вере Петровне дали на заводе квартиру с удобствами и перевели на инженерную должность. Тогда она все время торопилась — и в цехе, где ей, ко всему прочему, понадавали уйму общественных нагрузок, и на улице (она жила далеко от завода), и даже дома, когда, казалось бы, можно и отдохнуть. Ускоренный ритм, навязываемый цехом, так просто не сбросишь; жила больше надеждами (дескать, ладно, пока как-нибудь, а уж потом, в будущем!), и в этом была ее ошибка: надежды исчезли, будто и не было их, пришла старость, уже без радужных ожиданий, с мучительными сожалениями. Жила бы, как все, радуясь, что ходишь, видишь, дышишь…