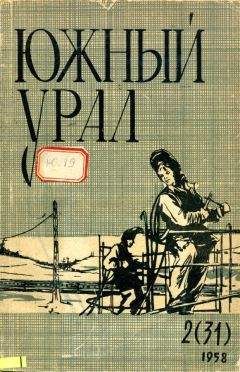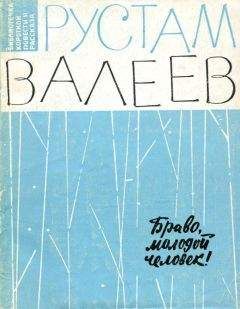Рустам Валеев - Земля городов
— Сейчас начинается борьба, — сказал он. — А борьбу лучше всего смотреть знаешь откуда? — И он показал на дощатую покатую крышу конторы. — У меня и бинокль есть. Идем?
— Идем, — согласился я.
— Ты где это замочился так?
— Я пил из фонтана.
— Вот хохмач! — восхитился Билял. — Говорят, ты выиграл приз? Не думал я, что ты такой ловкий.
Я захохотал.
— Нет, правда, видать, ты очень ловкий!
По шаткой горячей лестнице мы взобрались на крышу. Пока мы ползли по ее нагретой покатости, было очень жарко, но вот, добравшись до верха, я сел, выставив мокрые коленки, и ветерок стал обдувать меня, охолаживая и бодря. Отсюда, с верхотуры, каждый уголок футбольного поля хорошо обозревался; я увидел, как с высокого столба скользнул парнишка с лукошком в руке, послышалось верещание петуха, которое тотчас же заглушил смех толпы. Но уже начиналось главное: центростремительное людское течение стало заливать все поле и оставило только площадку в самом центре, где вот-вот должны были сойтись борцы.
— В прошлом году барана выиграл Хаджиев, — сказал Билял. Мне было все равно, кто выиграл барана, но я спросил:
— А кто такой Хаджиев?
— Из нашего техникума. Его каждый в городе знает. Смотри, смотри, Эдик Хаджиев!
В круг, тесно сомкнутый толпой, вышли борцы с полотенцами в руках, потоптались друг перед другом, словно примериваясь, затем каждый позволил сопернику обвить себя полотенцем за пояс — и в мгновение один из двоих оказался брошен и подмят. Слишком быстро все произошло. Когда вышла вторая пара, я почувствовал дремоту, глаза мои сомкнулись. Время от времени возгласы зрителей напоминали о происходящем, но следом же я погружался в теплое качание сна. Вопли, однако, усиливались, рядом орал и стучал пятками о крышу Билял, и я открыл глаза. Билял дрожал от возбуждения, так что бинокль подскакивал у него перед глазами.
— Дай погляжу, — сказал я.
— Погоди… эх, слишком тяжел этот боров, в нем пудов шесть наберется! — бормотал Билял. Наконец он не без сожаления протянул мне бинокль.
Я отчетливо увидел борющихся. Один был громаден ростом, толст и на вид очень неуклюж, а другой ниже ростом и пожиже туловом, но напорист и юрок, его смуглые руки и смуглые ноги отливали на солнце с ярким неистовством. Он был совсем еще молод, и я подумал: «Наверно, это и есть Хаджиев». Между тем Хаджиев все чаще беспокоил своего соперника, все заметнее раскачивал его титанический торс. Билял отнял у меня бинокль, и уже простым глазом я увидел, как оба крутанулись и пали — наверху воссияло упругое смуглое тело Хаджиева. А толстый лишь коснулся спиной земли, видать, и сам тому не поверил и в следующее мгновение подмял Хаджиева. Но победа уже была решена: судья подбежал к Хаджиеву и, как мне показалось, поспешно и даже сердито поднял его руку.
Мы слезли с крыши. Билял вскоре же убежал, а я только рукой махнул: пусть убегает, наверно, спешит поздравить Хаджиева.
Я проходил мимо раздевалки и вдруг вышел прямо на Хаджиева. Он шел впереди, за ним, поотстав, шли его поклонники. Хаджиев двинулся в раздевалку, и я машинально последовал за ним. Он свернул к душевой — и я за ним. Когда я зашел за дощатую перегородку, он стоял голый, из рожка бежали хлесткие звучные струи, крепкое, литое тело Хаджиева пружинно изгибалось, ловя струи, — он и вода точно забавлялись, воркуя о чем-то тайном. Заметив меня, Хаджиев не удивился, только улыбнулся белозубо и подмигнул. Я ни словом, ни жестом не отозвался, но вид у меня, наверное, был красноречив: нельзя было скрыть восторга перед этим крепким веселым телом. Потом я молча повернулся и вышел из душевой, столкнувшись в проходе с его робкими поклонниками.
Вдруг вспомнив о злополучном своем трофее, я решительно ускорил шаг. «Я уничтожу этот проклятый самовар!» — наверно, что-то в этом роде мелькнуло в моей разгоряченной голове. Ноги сами понесли меня к бассейну, где я надеялся застать Динку с ее подругой, отобрать у них самовар и разбить вдребезги. Но я увидел только «борова», с которым боролся Хаджиев. Он сидел по горло в воде и шумно, блаженно дышал. Я обошел вокруг бассейна, затем медленно двинулся по аллейке, удивляясь себе: что еще держит меня здесь, почему я не ухожу домой?
Аллейка вывела меня к веранде летнего театра. С досадой я остановился и хотел было повернуть обратно, как вдруг увидел сходящую с веранды Ляйлу. И она меня увидела, на миг в ее лице промелькнуло удивление, затем досада, но она помахала мне рукой. Я пошел ей навстречу.
— Я ищу Динку, — сказал я угрюмо.
— Мама увела ее домой. Ой, где ты так вывозился? — Она бесцеремонно оглядела меня, всем своим видом выражая сочувствие. Я уставился на нее упорным, угрюмым взглядом, ища в ее лице насмешку или презрение. Но ни насмешки, ни презрения, ни уже сочувствия, ее глаза рассеянно скользят мимо, немного досадуя, будто я мешаю ей что-то разглядеть. И тут я заметил: она нетерпеливо постукивает коленкой по авоське, в которой лежат сандалии, свернутые брюки и кепка.
С каждой минутой ее охватывало все большее нетерпение, и когда наконец я сказал: «Ну, пойду», — еще надеясь, что она удержит меня, — она благодарно кивнула и тут же побежала, не оглядываясь, за угол веранды, к раздевалке.
Что ж, надо было уходить отсюда. Я направился не к главным воротам, а в сторону конторы, там, я знал, была служебная калитка. Я хотел уйти не замеченный никем. Но, выйдя к калитке, увидел моего отца. Одной рукой он вел барана, захлестнув ему шею брючным ремнем, в другой нес самовар. Заметив меня, он обрадованно кивнул и, когда я подошел поближе, доверительно заговорил:
— А куда бы девал барана студент, ведь не стал бы он резать его и жарить шашлыки на дворе техникума! Он взял недорого. Сынок, ты очень устал?
— Ничуть, — ответил я, глядя ему прямо в глаза. Меня удивляло и возмущало то, что он не замечал моего состояния. — Я не устал, — продолжал я, — а ты хочешь, чтобы я поддержал за курдюк эту животину?
— Нет, нет, — всерьез возразил мой отец, — но вот если бы ты взял самовар…
Богу было угодно, чтобы мы не поссорились на людях: к нам направлялся Апуш. Подойдя, он молча взял за ремешок и притянул к себе барана.
— Ну, чего стали? — сказал он. — Пошли.
7
Что имел я тогда за душой? С грехом пополам закончил школу, пережил неудачную любовь и впервые познал стыд за другого. Я устыдился за отца и бежал из Маленького Города. Ошеломление перед случившимся, неприязнь, даже брезгливость… и страх, связанный с озарением: надо самому распоряжаться собой, не позволять никому лезть в твои дела, чтобы не расплачиваться за чье-то недоумие и собственную податливость.
Ну, а была ли любовь? Была. Но я не получил подарка от любви, а только предостережение. Тогда я, конечно, не мог оценить его, ведь это был опыт, пусть хотя бы крохи его, а опыт подытоживается не так рано, не в восемнадцать.
Маму я застал в растерянности: детдом переводили в Кусу, небольшой лесной городок, ехать туда она, конечно, не могла, посоветоваться и утешить ее некому — отчим вот уже месяц на Кавказе, на испытаниях новых бульдозеров.
— А он пишет? — спросил я.
Она усмехнулась сквозь слезы и кивнула на стол:
— Вон его адрес.
Разглядывая конверт, я заметил на себе ее пристальный взгляд. Она испуганно отвела глаза, губы у нее дрогнули.
— Прости меня, я должна об этом спросить… что произошло между тобой и отцом? Не с Булатовым! — резко уточнила она.
— Да все уж позабылось, — сказал я как можно беспечней. — Он хотел во чтобы то ни стало научить меня ездить на мотоцикле. Ну, ты же знаешь, какой я трус… вот, собственно, и все. Он немного дулся на меня, вот и все.
Она тихо засмеялась:
— Это так на него похоже! А ну его, этот мотоцикл, только шею себе сломаешь, правда? Ну, идем в комнату. А может, ты устал, так приляг.
— Я не устал. Я бы чем-нибудь занялся. Вот, может, почитаю или письмо напишу.
— Ступай, — сказала она, — а мне надо прибраться. Да, напиши, что я ищу себе работу… предлагают в заводскую библиотеку, но я еще не решила.
— Хорошо.
Я не мог просто написать о своем приезде и здравии, мне обязательно надо было высказать какую-нибудь идею и заранее спорить с ним, еще и не зная его отношения к предмету, изливаться в откровениях — боюсь, я слишком открыто писал о своих огорчениях… — это была патетика, которую другой, например, мама, мог бы и не понять. Но он, кажется, понял. Его ответное письмо было лишено подспудного поучительного смысла: возможно, он принял в расчет возможные мои раскаяния в поспешном душеизлиянии.
Он писал о себе, о своих делах, письмо его было свежо, юно и, казалось, источало запахи юга.
«Мы испытываем наши бульдозеры на строительстве дороги. Из Николаева сюда привезли те же катерпиллеры, что и у нас, но у николаевцев деформировался отвал. А наш бульдозер — тоже ведь катерпиллер, да мы его усовершенствовали! — поскрипывал, но выдержал все превратности здешнего грунта. Это победа.