Лев Правдин - Ответственность
— Недоверие? Нет. Осторожность. На одном недоверии не проживешь. Ну, давайте знакомиться. — Она бросила папиросу в песок и протянула руку: — Анна Гуляева…
И к этой очень знакомой фамилии она добавила еще одну совсем незнакомую и объяснила:
— Это по мужу. Мне тогда нравилась двойная фамилия. Чтобы все знали, что мы — двое. Такая была любовь.
— Анна Гуляева. Стихи? «Береза над крышей», — вспомнила Таисия Никитична.
— Да. Так назывался мой последний сборник. Вы читали?
— Он у нас был в госпитале. У кого-то из раненых в кармане оказался. Самое у нас любимое вот это было: «Под окном березонька, Родина любимая».
Рассыпая табак, Анна Гуляева вздрагивающими пальцами свертывала новую папиросу.
— Как же так? — растерянно спросила Таисия Никитична.
— А как вы?
— Да нет. Не о том. Такие стихи и… вы здесь?
Затяжка такая глубокая, что папироса затрещала и вспыхнула синим огнем.
Она взмахнула папиросой, как факелом:
— Девичий восторг, вот что такое мои стишки.
— Ну, нет! — Таисия Никитична почувствовала, как у нее запылали щеки от негодования. — Раненые ваши стихи наизусть заучивали.
— Это те, которые кричали: «За Родину, за Сталина!»?
Не уловив в ее вопросе насмешки, а только усталость, одну только усталость, Таисия Никитична горячо возразила:
— Кричали? Ну, конечно. Они же молодые, мальчишки еще почти все. В атаку идут, навстречу смерти, бегут и кричат не разбирая что. А я их другими видела. В госпиталях, когда опасность миновала. Тут они как люди живут, разговаривают, тоскуют и мечтают. Вот тут им и попалась ваша книжечка, а в ней самое желанное. Как там у вас: «Родина милая — дом и березка в окошко глядит»…
Второй окурок полетел в песок.
— Родина! Стишки для детей или для благополучных людей. «Родина милая»! Колючей проволокой опутанная…
— Солдаты не дети, а что касается благополучия…
— Да, но они не знают того чудовищного предательства, которое бросило нас в лагеря. А ваши родные?..
— Нет. Я думаю, ничего они не знают.
Это было сказано так вызывающе, что Анна Гуляева поняла, к какой больной ране она прикоснулась. Вздохнув, она тихо проговорила:
— Я еще не знаю, за что вас загнали сюда, но уверена: ни за что. И все, кто вас любит и уважает, тоже в том уверены. А стишки мои…
Ужина не дали, потому что вновь прибывшие еще с утра получили весь свой дневной рацион. В барак принесли только два бака с кипятком.
— Будем чай пить, — сказала Анна Гуляева.
Она открыла свой чемоданчик, в нем оказался полный набор посуды, сделанной, как видно, из консервных банок. Чайник, кружка, котелок, миски. Мастер, который это изготовил, знал свое дело и любил красивую работу. Каждую вещь он украсил монограммой: «АГ». Наверное, мастер, кроме своего дела, любил еще и того, для кого он все это изготовил.
Таисия Никитична заметила, как пальцы Гуляевой быстро прикоснулись к каждой вещи, будто приласкали. «Да, и мастера, должно быть, любила эта самая „АГ“», — подумала Таисия Никитична.
— Красиво очень, — сказала она.
Гуляева отдернула руку и равнодушно сообщила:
— Ничего особенного. У всех старых лагерников этого барахла сколько угодно. И вам наделают.
— Я принесу кипятку, — проговорила Таисия Никитична, торопливо натягивая сапоги.
Около бака уже выстроилась длинная очередь, и немедленно, как и во всякой очереди, объявились паникеры, пустившие слух, что кипятку, конечно, не хватит и надо установить норму. Но тут же нашлись законники и разъяснили, что такого правила нет, чтобы кипяток выдавать по норме.
Начались шумные споры, переходящие в перебранку, что только одно и скрашивает время ожидания в очередях. Этим обычно пользуются оптимисты. «Такого добра хватит, еще поднесут»! — обнадеживают они и, под шумок, жизнерадостно выхватывают кипяток без очереди.
Таисия Никитична заняла очередь, но тут к ней подскочила Тюня с полным котелком.
— Ох, какой у вас чайничек! Давайте, я налью, чего вам стоять-то.
Наполняя чайник из своего котелка, она рассудительно приговаривала:
— Им же не кипяток надо, они по очереди скучают. Я вам скажу, такие есть среди нас, что даже болеют, если в очереди не потолкаются.
— Ты меня от карцера выручила. Спасибо, Тюня.
— Вон что! Мне это ничего не стоит. А вы храбрая и откровенная. В лагере вам трудно привыкать будет. Ну, побегу, еще кипятку схвачу. Старушку надо напоить. Сидит, ждет.
— Какую старушку?
— Да эту, нашу с вами.
— Хороший вы человек, Тюня.
Тюня весело рассмеялась:
— А она заладила одно: паразитка да паразитка. Старушка-то. Разыскала я ее, получше устроила, она меня целует и говорит: «а все-таки ты паразитка». Вы не стойте, кипяток остудите, а я к вам потом забегу.
В ТУМАНЕ ЗВОН
После чаю Анна Гуляева предложила посидеть перед сном на чистом воздухе. Оказывается, здесь, на пересылке, можно совершенно свободно выходить из барака и даже прогуливаться по всей территории. Это была та свобода, которая сразу после тесных, затхлых камер, с их отупляющим режимом, возбуждает, как глоток чистого воздуха. Сделав этот глоток, Таисия Никитична не могла не сказать:
— Хорошо как!
— Да, — без всякого выражения согласилась ее собеседница, — вначале все так думают. Все зэки. Сядем.
Вдоль всего барака были устроены скамейки — неструганые тесины на сосновых стояках, врытые в землю. Тут сидели женщины, отдыхали после этапа, негромко переговаривались или молча смотрели, как над тайгой истончается и гаснет огненная полоска зари.
— Ну, значит, и я для начала должна была так подумать, поскольку и я сама теперь тоже зэк.
— Да уж, должна, — проговорила Анна Гуляева, кутаясь в свой пестрый бушлат. — А я, чтоб вы знали, кроме этого еще и чэс каэрдэ.
С не совсем приятным удовлетворением Таисия Никитична отметила, что она постепенно вживается в лагерный быт: вот уж и сама поняла, что такое зэк. Теперь ее знания обогатились и еще одним понятием. Со знанием дела она спросила:
— Это значит, ваш муж каэрдэ?
Пресекая дальнейшие расспросы, Анна Гуляева торопливо сообщила:
— Да. Его расстреляли тогда же, в тридцать восьмом. Мне сообщили, будто его в такой строгий лагерь, где без права переписки. Потом, когда и меня арестовали, узнала, что это означает расстрел. Детей хотели в спецколонию, да нашлись добрые люди, помогли им к бабушке сбежать. На Урал. Тем только и спаслись. Две девочки. Старшая вскоре паспорт получила и замуж вышла. А куда деваться, на бабушкину пенсию не проживешь. Через год уже и овдовела — на войне муж погиб. Младшая в какой-то мастерской работает, приемщицей. Учебу, конечно, бросили, так и живут на свою нищенскую зарплату, мои девочки. Вот вам и «под окном березонька — Родина любимая»…
Все это она проговорила с таким пугающим возбуждением, с каким безнадежно больной рассказывает о своей болезни. Так показалось Таисии Никитичне, и она, как безнадежно больной, сказала:
— Так Родина-то в чем провинилась перед вами?
— Родина? Я про стишки свои говорю. Я — дура, на этой березоньке сидела, на веточке, и преданно чирикала. В этом только я и виновата перед Родиной, избитой, замордованной, кровью залитой!..
— Так ведь война, — продолжала утешать Таисия Никитична безнадежно больную, но скоро ей дали понять, что если тут кто-то болен, так это она сама, и вовсе не безнадежно.
— Не повторяйте глупостей, — жестко проговорила Анна Гуляева. — Война! У нее есть свое подлое имя, у этой войны. То же самое имя, что и у тридцать седьмого года, у сплошной коллективизации и у сплошной голодной смерти — все ОН. И война — тоже ОН. Не было бы ЕГО, то не было бы и войны.
— Что-то страшное вы говорите, — совсем уж собралась возмутиться Таисия Никитична и даже поднялась, но тут же снова опустилась на скамью. Ведь это было только то, о чем она сама боялась даже подумать и никогда не отважилась бы доверить словам, как бесстрашно и безрассудно это сейчас сделала Анна Гуляева. Именно безрассудно, доверившись первому встречному. Это опасное доверие насторожило Таисию Никитичну, и ее собеседница заметила это.
— Вижу я, что вы сами себе поверить боитесь и меня тоже опасаетесь. А я так вам сразу поверила, когда вы про мальчика своего рассказывали и про себя. Поверила… Вас мои мысли испугали? И это понятно. Вы и не должны так сразу открываться, среди нас тоже всякие встречаются. Не всем можно верить. А самое лучшее — никому не верить.
— И следователь мой тоже так сказал: никому верить нельзя.
— Следователь сказал правду? Редкий случай. Редчайший.
— Да. А он сам же мне поверил. Такой мальчик молоденький. Он все свидетелей искал, которые в мою пользу показания дали бы. Ну, а его за это на фронт.



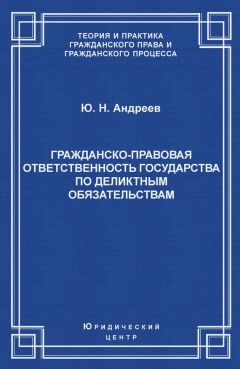
![Лев Гумилевский - Собачий переулок[Детективные романы и повесть]](/uploads/posts/books/152078/152078.jpg)