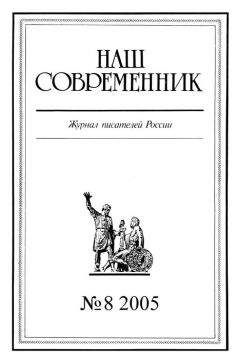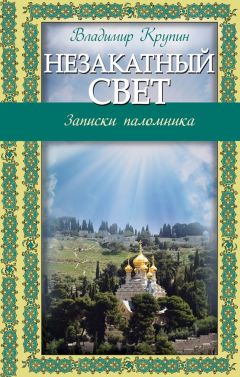Владимир Детков - Свет мой светлый
В школе Люська долгое время была в него влюблена, даже несколько писем в армию прислала. Но не только поэтому она может петь хвалу ему. Люська вообще обо всех говорила только хорошее. Она никогда не помнила обид и вряд ли кого сама могла обидеть. Да Серега и не обижал ее. Разве что не мог в свое время ответить на чувство…
Вот и в этот раз он болтал с Люськой, из кожи лез, выплескивая остроумие, в общем, как выразился, бы старшина, «выкаблучивал языком и распускал хвост павлиний»… Но все это снова предназначалось не для нее. Люська была лишь незаменимым катализатором, побудителем его бурного красноречия. Она с готовностью реагировала на любую шутку, как завороженная глядела ему в рот. Даже когда в ответ на ее предложение — поступать к ним в РИСИ (Ростовский инженерно-строительный институт) — Серега, играя словами, сострил, что рисовод из него вряд ли получится, хотя кашу рисовую он любит, — Люська хохотала как защекоченная, не обращая внимания на сдержанную улыбку своей подруги.
Нет, Люська вовсе не была какой-то дурносмешкой. Просто ей было радостно вдруг встретить его среди лета, говорить с ним о чем угодно. И в освещении этой радости все казалось многозначительным, интересным, веселым… Серега если и не все до конца понимал в ее отношении к себе, то уж по-доброму чувствовал это искреннее расположение и благодарен был ей за все сразу: и за этот заразительный, безудержный смех, и за влюбленные взгляды, и за Олю, бот весть как попавшую к ней в подруги и приехавшую погостить. В глубине души, в чем не очень-то хотелось сознаваться, Серега ловил себя на мысли, что он и с обрыва прыгнул не потому, что Люську узнал, а, скорее, наоборот — что не узнал никого в ее подруге…
А для Люськи было достаточно и просто на глаза появиться и отрапортовать что-нибудь в том же роде…
Славная, добрая Люська, снова тебе отводилась роль свидетеля, роль третьего, вначале очень-очень нужного, а потом и в той же степени лишнего…
Так и случилось у них в эти семь дней сотворения. Ходили всюду втроем, развлекались, казалось, поровну. Но руки двоих почаще соприкасались невзначай, взгляды двоих подольше задерживались друг на друге… На танцах все это проявлялось с достаточной определенностью, тем более что в отношении Оли ему приходилось выдерживать солидную конкуренцию парней.
На третий или четвертый день Серега прибег к помощи магнитофона. Как бы извиняясь за вчерашнее невнимание к Люське, с полчаса отплясывал с ней веселые ритмы прямо на пляже. Оля с интересом наблюдала за ними, не умея или не желая вот так запросто включаться в веселье. Но ее участие в веселых дурачествах и не входило в планы Сереги. Доплясав до определенного момента, он увлек Люську в реку, оставив Олю наедине с магнитофоном, который несколько минут кряду твердил ей голосом Лемешева-Ленского одну-единственную фразу: «Я люблю вас, Ольга…» В тот же вечер во время танца Оля вдруг спросила: «Сережа, а вы не устали нас развлекать?» И он понял, что и старанья Лемешева тоже сошли всего лишь за шутку…
Признаться, Серега и сам уже порядочно злился на себя за безудержное хохмачество, но все никак не мог избавиться от Яшкиных интонаций. С одной стороны, уже привык поддерживать взятый тон. С другой — смеясь над всем и вся, а больше — над собой, у человека, как это ни странно, всегда меньше шансов оказаться в смешном положении. Хохмачество и бравада стали маской, под которой он истинное чувство хоронил… Да истинное ли оно? Вырвался из «мужского монастыря», увидел первую красивую девушку, и — короткое замыкание. Ну что он для нее? Таких вздыхателей у нее небось пол-Ростова. Да и солдатскому чувству вера не велика. Ребята вон с тоски, бывало, девчонкам с журнальной обложки или газетного снимка чуть ли не всем взводом пишут, если у кого связь с землячкой оборвалась или же не было таковой. Об артистках кино и говорить не приходится. Сам таит фотооткрытку до сих пор. Лично он письменных объяснений и предложений «заочницам» не посылал, но от имени и по сердечному поручению дружков-приятелей случалось говорить стихом и прозой. И хотя фильм «Семь невест ефрейтора Збруева» заставил всех их друг над другом и каждого над собой посмеяться вволю — писать все равно продолжали. И ведь надеялись на что-то, чудаки. Да разве в этом «что-то» дело? Надежда и стремление души, пусть в неизвестность, пусть неуклюже и наивно, а скрашивали, разряжали солдатский быт. Особенно у тех, чья служба проходила вдали от городов-поселков. И что теперь гадать — истинно, не истинно. Не под венец же собрался. Сознайся лучше, что перетрусил.
И все-таки в следующий раз магнитофон, оставленный наедине с Олей, заговорил его голосом, доверяя стихи, еще неведомые миру… Стихи, сами по себе, быть может, и не стихи вовсе, Но ведь не всему же миру они и предназначались. Зато каким всесильным чувствовал себя, когда писал их ночью. Как верила душа, что не понять ее нельзя… И дрожь во всем теле, как после прыжка. Но уже по иной причине, как утверждение: истинное. И когда перед рассветом начитывал на магнитофон, голос его звучал убежденно. Не умоляюще, не просяще — исповедально. Не декламируя, а выдыхая слова. И голос, сам голос — его волненье, интонация, дыхание, паузы-точки, паузы-переосмысления — говорил, пожалуй, куда больше слов…
Оля встретила его продолжительным взглядом, без тени улыбки и недоумения, которые, казалось, постоянно таились в ее глазах, когда она смотрела на него. И Серега почувствовал, что не сможет больше острить, дурачиться, зубоскалить. Дрожь, похожая на ту, что была после прыжка, и на ту, что жила в нем этой ночью, объединились в ознобную слабость, и он молча опустился на горячий песок.
Люська, метнув взгляд с одного на другого, тоже что-то почувствовала и поняла, потому как вдруг засобиралась куда-то, заторопилась.
Люська, чуткая Люська… Как обиженную сестру любил и жалел ее Серега в ту минуту…
Но Оля не позволила Люське уйти одной. «Жарко сегодня», — сказала она и тоже стала собираться, Серега согласился, хоть самого пробирал нервный озноб. Лишь дома почувствовал он в полную меру, как обессилел, и с волнением воскрешая в памяти Олин взгляд, забылся тревожным, прерывистым сном, в котором ему надо было сделать что-то важное-важное, но этому мешали всякие невероятные обстоятельства. И он просыпался, будто выныривал из глубины, но, осознав, что так и не завершил свое важное, снова соскальзывал в глубь сна…
VIII
В этот вечер они не задержались на танцплощадке. Оля сама предложила пройти к Дону, как только Люську пригласили танцевать. У воды сняла босоножки и шла молча по влажному песку, чему-то улыбаясь. Серега тоже молчал, двойственно переживая эти минуты. Ему хотелось, чтобы они тянулись как можно дольше, а он бы все шел и шел рядом с ней, чуть приотстав, и смотрел и а нее… И видел только часть открытого лба, овал щеки, уголок губ с верхней припухлой, чуть привздернутой к маленькому носу… И всю сразу — от текучих, сливающихся с сумерками волос до выблескивающих, как две играющие плотицы, ступней. И в то же время он маялся сомнением: ведь надо что-то говорить, Оля, наверно, ждет… Но ничего созвучного этим минутам не приходило ему в голову. Разве что песню запеть. Протяжную и тихую, как вечерняя река… Он даже перебирать начал в уме песни. Не названия их, а первые или какие помнились фразы мысленно пропевал. Но память, словно магнитофон с чужой сумбурной записью, выдавала определенное не то. Серега и не подозревал, что так безнадежно напичкан громкими строевыми и крикливыми эстрадными песнями. Иные из последних, пожалуй, и песнями-то не назовешь. В них мысли и чувства кот наплакал, зато много шума и слезливых завываний. Вчера еще он не задумываясь и не без удовольствия вытанцовывал под их звучание и даже подпевал, а сейчас вот они назойливо вертелись на уме, раздражая своей пустотой и надуманностью, заслоняя собой ту единственную, которая никак не вспоминалась или которую он просто еще не знал.
А Оля обернулась и тихо попросила: «Почитай что-нибудь, Сережа».
И он, словно этого только и ждал, выдохнул из себя:
Немного лет тому назад,
Там, где сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры…
Серега мало стихов знал наизусть. Даже свои юношеские сочиненья помнил лишь день-другой. Но «Мцыри» Лермонтова мог читать с любой строки до последней точки. На то были особые причины. Так уж случилось, что по воле армейских будней пришлось им малой группой около месяца зимовать не только вдали от шума городского, но и вообще от всякого жилого. Забросили на объект по тревоге, так что о культурно-массовой программе никто подумать не успел. Шахматы, шашки соорудили из подручных средств. А книжка была всего одна. Тоненькая, с гравюрным изображением мятежного юноши на обложке. И ту Яшка в последний момент перед отлетом стащил у ротного дневального.