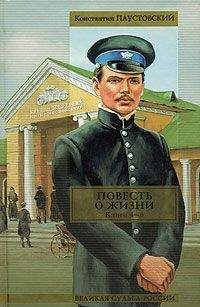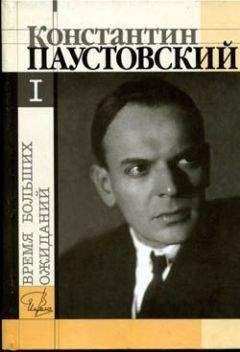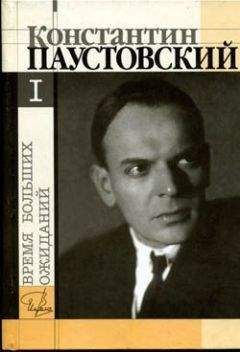Константин Паустовский - Том 5. Повесть о жизни. Книги 4-6
Мичмана резко одернул комиссар Николаевского порта.
Но никаких признаков опасности пока что не было. Мы отвалили в легком, моросящем тумане. Амфитеатр города, купол Оперного театра, дворец Воронцова, потом Фонтаны и знакомая башня Ковалевского — все это, покачиваясь, медленно уходило во мглу и вскоре совсем исчезло. Тихо шумели, подгоняя друг друга, бесконечные волны.
В камбузе нашелся кипяток, и мы, сидя на полу, со вкусом напились чаю с сахарином.
Вечером волны начали шуметь сильнее, но мирный запах пара и каменноугольного дыма и мерное качание парохода успокоили всех.
Я крепко уснул. Сколько времени прошло, не знаю, но когда я проснулся, то мутно и далеко, будто за километр от меня, горела над умывальником лампочка, волгарь раскачивался и держался за края раковины, меня било плечом о дверь каюты, и все вокруг трещало на разные голоса. Было слышно, как «Димитрий» с тяжелым вздохом проваливался в воду и с трудом из нее вылезал.
— Ишь, штормяга! — неодобрительно сказал кто-то из моряков. — За час развел волну до семи баллов.
Но моряки были спокойны, и это подбадривало и нас, обыкновенных смертных.
В каюте было тесно и душно. Каюта внезапно толкалась, стараясь свалить нас всех в одну кучу, потом начинала дергать нас из стороны в сторону, вытирая нами, как швабрами, пол.
Молодой мичман приоткрыл дверь и заглянул в коридор. Там уже вповалку густо лежали мешочники, сбежавшие с палубы. Среди них стоял, упершись дрожащими ладонями в стены узкого коридора, старый еврей в длинном лапсердаке.
— Чего вы стоите? — сказал мичман. — Укачаетесь. Надо лечь.
— Разве вы не видите, пане, — ответил еврей, — что мне негде положиться?
Куда ехал этот местечковый старик, непонятно. Во всяком случае, он выглядел совершенно дико на морском скрипучем пароходе во время качки и ночного шторма.
Мичман вышел в коридор, растолкал спящих мешочников и очистил место для старика.
— Библейский персонаж из Всемирного потопа! — сказал мичман, возвратившись в каюту.
Я лежал у стены и слушал, как валы, сотрясая пароход, ударяли в топкий железный борт. Мне становилось не по себе. Странно было сознавать, что в четырех миллиметрах от твоего разгоряченного лица несутся во мраке горы ледяной осатанелой воды. И в каком мраке!
Я посмотрел на иллюминатор. Непроницаемая, как бы подземная тьма простиралась там, в первобытном хаосе непонятно огромных водных пространств.
Никто не спал. Все прислушивались, «Димитрий» резко потрескивал. Нельзя было понять, почему до сих пор не раскрошились в щепки трухлявые стены кают, полы и потолки, тогда как качка корежила, гнула и расшатывала все винты, болты, скрепы и заклепки.
Каждый раз, когда раздавался сильный треск, я взглядывал на моряков. Они были спокойны, но часто курили. Я тоже много курил, убеждая себя в том, что запас плавучести у нашего престарелого «Димитрия» гораздо больший, чем я, гражданский невежественный товарищ, предполагаю.
Все мы ждали утра. Но оно скрывалось еще страшно далеко в плотном, охватившем полмира, завывающем мраке.
Качка усиливалась. Пароход уже стремительно и сильно клало то на один, то на другой борт. Винт все чаще выскакивал из воды на воздух. Тогда «Димитрий» яростно трясся и гудел от напряжения.
— А не может нас выбросить таким штормом на берег? — неожиданно спросил волгарь, стараясь удержаться на умывальнике.
Моряки пренебрежительно промолчали. Только минут через десять суровый и вместе с тем добродушный комиссар Николаевского порта ответил:
— Шторм уже загибает до десяти баллов. Конечно, все может быть. Но не надейтесь на берег. Чем дальше от него, тем спокойнее.
— Почему? — спросил волгарь.
— Потому что у берега пароход непременно подымет волной и разобьет о дно. Или о скалы. И никто не спасется.
А я-то, поглядывая каждые десять минут на часы в ожидании рассвета, мечтал, что мы сможем подойти к берегам Северного Крыма и высадиться на них — на эту скудную щебенчатую и спасительную землю.
Среди ночи молодой мичман встал, натянул сапоги, надел кожаный плащ с капюшоном и небрежно сказал:
— Пойти посмотреть, что там у них делается наверху.
Он ушел, но скоро вернулся, весь мокрый, от капюшона до пят.
Никто его ни о чем не расспрашивал, но все напряженно ждали, когда он заговорит сам.
— Речь — серебро, а молчание — золото, — насмешливо промолвил мичман. — Ну, так слушайте. Волна валит через палубу. Смыло две шлюпки из четырех. Погнуло планшир. Дошло до одиннадцати баллов. Но это пока еще пустяки.
— Хороши пустяки! — пробормотал комиссар Николаевского порта и сел на койке. — Рассказывайте! Что еще?
— Волнами повредило форпик, и у нас открылась некоторая течь…
— Донки работают? — тихо спросил комиссар.
— Работают. Пока справляются. Но машина сдает.
— Двигаемся?
— В том-то и дело, товарищ комиссар, что не выгребаем.
— Сносит?
— Так точно!
— К берегам Румынии?
— Так точно!
Комиссар встал и схватился за верхнюю койку.
— Так там же… — начал он и осекся. — Пойду-ка я к капитану и выясню.
Он ушел. Мы долго молчали.
— Весь анекдот в том, — сказал один из моряков, — что у этих самых берегов Румынии немцы во время войны разбросали огромные, просто роскошные букеты мин. Они там стоят до сих пор. Если нас тянет на эти мины…
Он не досказал, что тогда будет с нами, но и без него мы прекрасно это знали.
Комиссар возвратился и, не снимая кожаного пальто, сел на койку и закурил.
Снаружи с пушечным гулом била и шипела волна и пронзительно, все время набирая высоту, свистели снасти. От этого свиста леденела кровь.
— Дали SОS, — вдруг сказал комиссар и помолчал. — Бесполезно! В наших портах судов нет. А из Босфора в такой шторм никто носа не высунет, даже «Сюперб». Дошло до одиннадцати баллов. Так-то, приятели!
Все угрюмо молчали. Было слышно, как в коридоре плескалась вода. Ее налило с палубы через комингсы — высокие железные пороги.
Так прошел день, пришла в гуле урагана окаянная вторая ночь. Но шторм не стихал, и казалось, не стихнет до последнего дня этого мира.
На третий день наступило какое-то всеобщее оцепенение. Всех, даже старых моряков, очевидно, замотало.
На четвертую ночь я сидел с закрытыми глазами, упершись ладонями в пол, и считал размахи парохода. Иногда они делались слабее, и тогда я торопливо закуривал. Но это обманчивое затишье длилось недолго, сердце снова срывалось, замирая, и каюта взлетала и косо падала в невидимую пропасть.
А потом страшно медленно, останавливаясь и как бы раздумывая, не вернуться ли ей обратно, за потным иллюминатором начала наливаться сизая и скверная заря. Свист снастей дошел до осатанелого визга.
Дул норд-ост, «бич божий», как говорили моряки. От них я узнал, что норд-ост дует или три дня, или семь, или, наконец, одиннадцать дней.
В коридоре зашевелились и заговорили хриплыми голосами мешочники, заплакали измученные женщины. Какая-то старуха все время исступленно бормотала за дверью каюты одну и ту же молитву: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» При сильных размахах парохода старуха, очевидно, пугалась, обрывала молитву и только быстро говорила: «Крепкий, помилуй нас! Крепкий, помилуй нас!»
Я решил впервые выйти на палубу. Моряки говорили, что в каюте гораздо тяжелее, чем снаружи.
Комиссар Николаевского порта пошел вместе со мной.
— Вам одному нельзя, — сказал он. — Без меня вас просто не пустят на палубу. И опять же вас может смыть.
По косточку в воде, в тошнотворном запахе блевотины мы добрались среди лежавших прямо в воде и стонавших мешочников до узкого трапа. Он выходил на верхнюю рубку, а оттуда — на палубу.
Комиссар сильно нажал плечом на дверь рубки. Она распахнулась. Струей воздуха нас вышвырнуло наружу.
Я схватился за обледенелый канат и увидел то, что предчувствовал в темной каюте, — зрелище исполинского, небывалого шторма. Оно наполнило меня обморочным ощущением отчаяния и ужасающей красоты.
Я стоял перед штормом лицом к лицу — жалкая, теряющая последнее тепло человеческая пылинка, — а он гремел, нес стремительные, железного цвета валы, рушил их в темные бездны, швырял в набухшее небо извержения брызг и холодного пара, накатывался тысячетонными холмами, рвал воздух и лепил с размаху в лицо липкой пеной.
Корма «Димитрия» то взлетала к облакам, то уходила в воду. Длинные и крутые волны вздымались и неслись от горизонта до горизонта. Они гнали перед собой буруны и открывали в провалах величественную и мучительную картину движения свинцовых водных громад — той ураганной области, через которую мы должны были прорваться, чтобы остаться в живых.