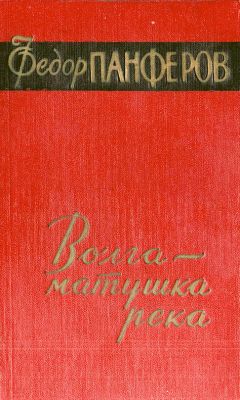Федор Панфёров - Бруски. Книга I
– Срыть бы их, – тихо проговорил Никита и повел ухом на крик из улицы.
В улице, рядом с колодцем, старенькая, как и сам дедушка Пахом, изба Пахома Пчелкина. Около избы мужики, а посередь них Пахом топчется, охает:
– Семьдесят третий тут живу, а теперь бросай, в чужую страну кати, а? Накось вот, бросай и кати!
Глазами обвел мужиков, остановился на Маркеле Быкове. Руку вскинул для торгашеского хлопка:
– Ну! Бери, Маркел Петрович! Не жалей, клади больше: добро тебе перейдет. Сколько же, а? Маркел Петрович?
Маркел убрал руки на поясницу, глянул вдоль порядка, на свой шатровый дом, потом на Пахомову избенку, прищурился:
– На кой мне ее? Я так думаю – пихнуть ее, и гнилушек не сберешь.
– Ты выручай из беды старика, выручай, – затараторил Митька.
– Подыхать мне, чую, – Пахом ударил себя в грудь сухим кулаком. – Неохота подыхать… А сам знаешь, не такие в черный год подохли, ежели к хлебу не ушли… Вот что… А то рази бы продал!..
– А ты проживешь, – добавил Митька, подойдя вплотную к Маркелу. – Вот и выручай… Место – Павлу аль Михаиле – вернется… Вот и выручай. Есть у тебя.
– Эка, ты, какой маленький! – Маркел даже оттолкнул его от себя. – «Есть, слышь, у тебя!» Ты вон продай вторую-то телицу. Зачем она тебе?… И купи! А-а?
– Да мне… – замялся Митька. – Да мы… Я ведь так, К слову. Так только… Знамо дело, где у нас?
– То-то и оно. А совет даешь – купи… Купи ты. Ну, – Маркел повернулся к Пахому. – Тебя только выручать, три пуда.
– Три пуда? За избу?
– А то за что же? За бороду, что ль, твою?
Мужики уставились глазами в землю. За избу три удар. А Пахом встрепенулся, носком валенка в угол избы ткнул. Сверху посыпались гнилушки, в завалинке запищали мыши.
– Ты гляди!.. Гляди, углы какие. Сосна какая… Такой сосны теперь на краю Расеи не сыскать.
– Три пуда, – отрезал Маркел, – и то…
– За три? За три пуда не отдам… Сожгу, а не отдам! Своими вот руками сожгу, – Пахом затрясся, – а не отдам.
Со двора выбежала Улька. Приложив козырьком руку ко лбу и держа другой концы косынки на груди, она крикнула:
– Ей! Иди обедать!
– Жги! – прогнусил Маркел. – Жги, – и пошел на зов Ульки.
– Куда ехать-то хочешь? – опускаясь на корточки у завалинки, спросил Митька.
– В Кизляр. Племяш из Ермоловки в Кизляр зовет. Там, байт, все тебе – и виноград, и вино, а картошка – ее не сеют, сама родится.
Мужики задымили махоркой, держа цигарки в пригоршнях: сухмень – пожар может ментом. Слушали рассказы дедушки Пахома про Кизляр.
– В Китае вот еще, бают, жарену саранчу едят. Гожа, бают. Но до Китаю далеко.
Из-за угла вышел Степан Огнев. Воткнув лопатку в сухую землю, он некоторое время слушал рассказы Пахома, потом заговорил:
– На чужие могилки умирать собираетесь? На своих-то хуже?
– А что делать?… Делать-то что, Степашка? – Пахом стал на колени. – Ну, присоветуй, как от голода не подохнуть? Думаешь, сладкий мед – катить не знай куда? Э-э-э-э, – смахнул слезу. – Жалею вот – раньше смерть не пришла!
– Дела найдутся… Руки у нас есть, а дела найдутся… Давайте только сообща обмозгуем.
– Вы всегда чего-то болтаете, – мусоля окурок цигарки, Митька повернулся на корточках. – А толку от вас все равно вот что, – бросил окурок и грязной пяткой растер его в пыли.
– Зря ты, зря, – Пахом замахал на него руками. – У Степашки голова есть… есть голова…
2
И побежали дни ежами…
Чем дальше, тем короче ночи, жарче палит солнце, давит небо пеклом исполосованную трещинами землю.
Чумеет в пекле земля.
Чумеют и бабы от надвигающегося голода, а мужики ходят злые по улицам, сидят у дворов, опустив длинные, жилистые руки. Иные лезут на крыши сараев, смотрят в небо – нет ли тучки?
Не шли тучки.
Где-то бегали, где-то, слышь, дождь проливной, а в Широком – сухмень.
И наступили тоскливые, мятущиеся дни и ночи. У каждого беда в жмых сжимала сердце, только текло не масло, текла густая мужицкая горечь и злоба.
Потом слух:
«В стороне – полтораста верст от Широкого Буерака, в Камышловке – у вдовы одной икона обновилась».
Сначала никто не поверил. Но когда обновление пошло полосой, когда обновились иконы в Зюзине, Ермоловке, Болотцах, Илим-городе, когда слух об обновлении заползал совсем под ногами – в Никольском, – поднялись широковские бабы. Вечером, кутаясь в шали, тайком, будто на свидание к любовнику, бежали они – избранницы тетки Груни, жены Никиты Гурьянова, – за околицу на реку Алай. И там, где Бурдяшка уткнулась концом в Гнилое болото, собирались и, отмахиваясь от назойливого комара, молились на воду – просили у владычицы знамения.
А дни бежали жестокие, колючие, как ежи… Горели в полях хлеба, пересыхали речушки, худела скотина, и роями вились мошки.
Обозлились мужики – в глазах блеснул огонек волчий, в походке появилось что-то тихое, вкрадчивое, воровское. А у баб на лбах пошли шишки, на теле раны от укусов комара: седьмую ночь они молились на воду у Гнилого болота. Иные растерялись – поотстали, ровно измученные коровы от стада, иные на молении молча стояли – слезы лили старательно, крепко сжав губы, донимали владычицу. У Зинки веки опустились – хоть руками поднимай. У Зинки в спине боль, ломота, голова чугуном налилась, а Зинка все гнулась, про себя твердила:
– Перестрадаю уж… владычица пошлет… пошлет владычица, образумит Кирьку… – и крепко стучала лбом о берег Гнилого болота.
А тут другой слух:
– В Зубовке – тридцать верст от Широкого – одна святая дева семь ден мертвецким сном спала, на восьмой ангелы господни ее в церковь принесли… Народ, кто у обедни был, глядел на деву. У девы в одной руке кусочек мяса, в другой – трава зеленая. Мясо исцеляет от всякой болезни: хромой – пойдешь, слепой ежели – узришь. А траву возьмешь, в село принесешь – дождь польет.
В ночь у Гнилого болота Маркел Быков, возвестив о деве бабам, добавил:
– Идите, бабыньки, тридцать верстов по татарской дороге, не сворачивая, там и найдете святую деву. Траву у нее возьмете да в село к нам – на поля наши… Да торопитесь, бабыньки, потому – травы той с неба отпущена малая толика, разберут.
И рано утром – еще пастух не успел проиграть в рожок и на зов рожка еще не откликнулся протяжным воем кудлатый пес Цапай – тетка Груня Гурьянова и Зинка задами, лесными тропочками направились в Зубовку за святой травой.
А к вечеру в Широкое зубовские да камышловские бабы пришли, перед цврквешксй на колени пали, на коленях к паперти поползли, пели хвалу господу.
Сбежались удивленные широковцы.
– Чудо у вас, – выкрикивали бабы, – в церкви под самым крестом ангел вьется, а на паперти икона обновилась.
«Оно хорошо бы молящихся к церкви приковать… Да как бы нас Огнев с милицией не накрыл?» – подумал Маркел Быков и загнусил на баб:
– Не кощунствуйте. Своих дур много.
3
Во время обеда, когда солнце, словно напоказ, палило землю и лошади, лениво отмахиваясь от мошкары, забивались в тень, – с Шихан-горы спустились и через топи, тропочками подошли к Гнилому болоту тетка Груня и Зинка. Шли они медленно, повеся головы.
У Гнилого болота их встретили с расспросами бабы.
– Умерла дева, – неожиданно выпалила тетка Груня. – На осьмой денек умерла.
Бабы завыли, а ходоки ниже склонились, вместе с бабами тронулись в улицу. В улице перепутался плач с пением молитвы – оторвали широковцев от послеобеденного тяжелого сна.
Кирилл вышел на бабий вой, посмотрел, сплюнул, длинным железным засовом запер ворота и калитку, пробормотал:
– Попой вот там…
Ушел в сенник, лег на помятую шелковистую солому.
Пахло ржаниной, перепрелым навозом. За плетнем на огороде жужжал шмель, чирикали воробьи, а вверху, под крышей, лениво кружились мухи.
Со двора Маркела Быкова послышался грубый, монотонный голос Павла:
– Не ентай, вон ентай. Не ентай, вон ентай.
Кирилл поднялся, посмотрел в щетку плетня. Во дворе Быкова буланая кобыла в упряжке переступила через вожжу. Павел согнулся, кричит:
– Не ентай, вон ентай! Не ентай, вон ентай!
Буланка бьет копытом в барабанную сухую землю, уши приложила – не понимает Павла, злится. А Павел свое орет, тыча Буланке кнутовищем в ноги:
– Не ентай, вон ентай… Ну-у-у!
Из-под сарая вышла Улька.
– Эх, головушка! Вожжи не можешь выпростать. – Положила руку на ногу Буланки, ласково проговорила: – Ножку, Буланка!
Буланка подняла ногу, Улька вожжу высвободила. Павел заржал, ткнул пальцем Ульке в высокую грудь.
– Отстань, сопля! – Улька наотмашь ударила Павла по лицу мокрой тряпкой, вбежала на крыльцо, передразнила: – Не ентай, вон ентай… Э-э, лягушка!
Ушла в избу. Павел долго возился около лошади; перекладывал вожжи, закручивал их на руке, садился в рыдван, вылезал, потом присел на корточки и кнутовищем начал чертить на земле огромное лошадиное копыто.
– Ох, – вздохнул Кирилл и вновь прилег на ржаную солому. – Вот отчего так? Отчего путы такие на человека? Права наш человек имеет путы рвать, а не рвет…