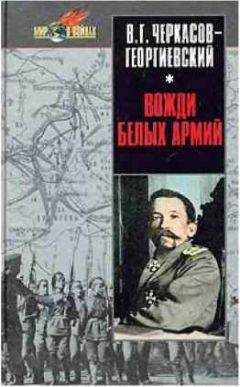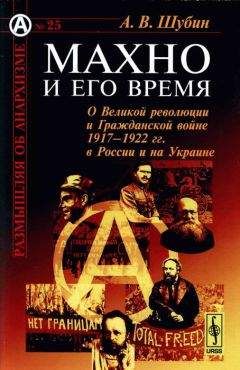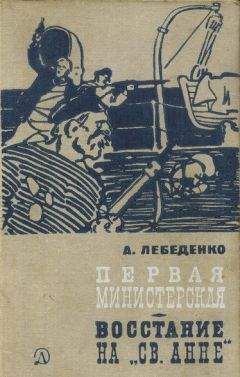Александр Лебеденко - Лицом к лицу
Давно задуманные, по ночам во всей реальности стоящие перед глазами картины могут быть созданы именно здесь. Все его богатство: этюды, найденные в минуты обостренного внутреннего зрения, образы и краски, полотна, существующие и только еще намеченные, — уже размещалось в его воображении на этих стенах, превращая комнату в свою и единственную. Здесь девушка валялась бы в желтых пятнах солнца на серебряном песке, рядом блеснул бы черными, зелеными, оранжевыми шелковыми огнями китайский платок, широкоплечий кузнец утирал бы пот над алыми углями горна…
А цена этому помещению?
Услышав свой голос, Евдокимов подумал: не пропадает ли в нем талантливый чревовещатель?
— Господин Бугоровский, Виктор Степанович, цену сами назначат. Если подходит вам — вы к ним пройдите.
Квартира Виктора Степановича показалась Евдокимову невероятной. Как в стенах доходного дома могла приютиться такая изысканная роскошь! Владелец квартиры, конечно, миллионер. Какая же могла быть цена мастерской?
Виктор Степанович принял художника в большом, как зал, кабинете. Только одно незанавешенное окно бросало свет на деловой стол и пару глубоких кресел, оставляя в тени необозримый хаос вещей и мебели, скорее всего напоминавший лавку антиквара. Бугоровский пошел навстречу Евдокимову, как старому другу.
Когда еще только копали котлован под фундамент дома и хозяин все еще не мог отчетливо вообразить, как это висящий под стеклом в его кабинете проект станет жилым домом, в квартире архитектора поздним вечером раздался телефонный звонок. Голос Бугоровского спросил:
— Не спите еще, Валерий Никодимович?
— Н-нет, но собираюсь… — буркнул архитектор.
— Маленькое изменение в проекте…
Архитектор молчал. Черт бы побрал все эти капризы домовладельцев…
— Нельзя ли на крыше… этакую стеклянную мастерскую. Побольше стекла, знаете… Чтоб сверкала на солнце.
В представлении архитектора на проекте безжизненно вспухло зеленоватое пятно.
— Поразмыслю, Виктор Степанович… Можно, я подумаю…
В числе примерных посетителей весенних выставок был и Виктор Степанович. В молодости ему удавалось, не насилуя себя, замирать ненадолго перед полотнами передвижников. Но вкусы менялись. Передвижники отступали в прошлое. Виктор Степанович, раз ощутив, что на этом фронте он не поспевает за временем, усвоил себе вместо прежней откровенной восторженности более соответствующую его возрасту и положению систему осторожных, туманных высказываний. Он стал покупать те полотна, о которых хотя бы и разноречиво, но много говорила пресса.
Наливающаяся соками российская мелкая буржуазия, наскучив поражениями в робкой политической фронде, в поисках розы без шипов объявила революцию в искусстве. Искания были подняты на щит, с которого ушло мастерство. Передвижники вспоминались теперь не как полотна, но как отпечатанные в миллионах экземпляров открытки, которые для иллюстрации подходящих чувств можно посылать с приветом со случайного вокзала.
Бугоровский покупал, подобно многим питерским богачам, и картины старых мастеров. В солидной полутьме они висели в кабинете, в приемной, не получая доступа в анфиладу парадных комнат, где в большие дни толкались толпы разнокалиберных, согласно духу времени, гостей. Ему казалось, что способность быстро откликаться на события искусства подтверждает его стиль дельца — новатора и создателя вкусов. Он приобретал не нравившиеся ему, но возбуждавшие салонные толки работы кубистов, экспрессионистов. Бульварные листки, газеты швейцаров и генеральских вдов отметили его коллекцию. Полотна появлялись на сезон. Когда о них забывали — он приказывал убрать их. Так меняют опустившие лепестки букеты в саксонских вазах.
В вербную субботу, провожая Елену в «Поощрение», он встретил на лестнице особняка заводчика Фраермана. С брюзгливым выражением лица богач следовал за мальчиком, который нес к карете купленную картину.
— Люблю искусство, Виктор Степанович, но не терплю художников, — вместо приветствия отнесся к нему Фраерман, несколько раз выразительно встряхнув свежими перчатками. — Можно покупать картины, но надо на три версты держать от себя художников… Это уже кто-то сказал?.. Или это я сам придумал?
Виктор Степанович ответил шуткой, внес тысячу рублей в Общество художников, познакомился с тремя подающими надежды скульпторами и живописцами и позвонил архитектору насчет мастерской. За вечерним чаем он сказал Елене:
— Какой-нибудь из твоих женихов вытянет счастливый билет.
Дом был закончен, и Евдокимов оказался первым претендентом…
— Понравилось? — спросил его Бугоровский.
Вместо соответствующего восклицания Евдокимов втянул в себя воздух. Это было лучшим комплиментом затее Виктора Степановича.
— Вы давно окончили Академию?
— Два года. Я имел заграничную поездку.
— Лауреат? Не ваша ли «Амазонка» весной была в Академии? Горячие, сильные краски…
Евдокимов радостно вспыхнул.
— У кого она сейчас?
— Куплена князем Юсуповым.
— Прекрасное начало. Ну что ж, мастерская за вами. Послужим и мы искусству… как умеем.
— Я боюсь только… по средствам ли мне? — пролепетал Евдокимов. — Может быть, мы вдвоем…
— Мастерская строилась не ради денег, — веско уронил Бугоровский. — Будете платить столько, сколько платите за ваше помещение сейчас. Контракт на два года. Оставьте в конторе адрес. Вещи ваши перевезут. А в ближайшие дни, когда устроитесь, — я ваш гость. — Он попрощался широким и радушным жестом.
На следующий день вечером Евдокимов сидел на подоконнике еще пустой мастерской, спустив одну ногу над обрывистой крышей. К дому подъезжала коляска. В коляске сидела девушка, красоту которой не мог не оценить художник. Она смотрела на окно мастерской и видела человека, сидевшего, как птица, на подоконнике с одной ногой наружу. Она вошла в дом, а Евдокимов все еще смотрел вниз и свистал тихо и ладно, как ладно и тихо было у него на душе. Он думал о том, что жизнь вовсе не так зла, как об этом говорят и пишут. Думал наперекор своему худосочному детству, голодным студенческим вечерам, ревматическим узловатым пальцам матери, наперекор ранней смерти отца, железнодорожного машиниста. Будущее располагает страшной силой. Один луч его способен испепелить все материки прошлого.
Девушка пришла в мастерскую с Бугоровским.
Кутаясь в шаль, пока Бугоровский, говоря без умолку, выплачивал Евдокимову триста рублей — аванс за будущие портреты его и Марии Матвеевны, — она молча рассматривала свежий холст, на котором четыре галки прыгали вокруг старого гнезда, пушистого, насквозь просвеченного заходящим солнцем.
Он встречал ее в квартире Бугоровских во время сеансов.
В «Поощрении» она сказала ему, как старому знакомому, что придет со своими альбомами.
«Неужели она рисует?! — подумал Евдокимов. — Вероятно, бездарна, как половая щетка. Очень жаль!..»
Девушка действительно была прекрасна.
Но принесенные акварели были вовсе не плохи. Пока Нина любопытным зайчиком обегала все углы мастерской, он ставил работы Елены одну за другой на мольберт, долго молчал, потом говорил, по-ученически стыдясь и волнуясь, боясь перехвалить и радуясь возможности одобрить.
Елена приходила часто. Вскоре она перестала брать с собой Нину. Она забиралась с ногами на тахту и, раскрыв на коленях книгу, со спокойствием и уверенностью, которые так шли к ней, требовала, чтобы Евдокимов работал, не обращая на нее внимания.
Евдокимов послушно брал кисти и палитру. Ему казалось, будто он расписывает церковный плафон в качающейся люльке па страшной высоте.
Но Елена способна была сидеть часами, не меняя позы и, казалось, не отрывая глаз от книги. Было приятно усилием воли, которое давалось не сразу, возвращать уверенность руке и кисти. Почувствовав свободу, Евдокимов писал с двойным усердием. Работа в присутствии этой необыкновенной девушки, бесконечно чужой и прекрасной, превращалась для Евдокимова в нелегкий, но волнующий спорт.
Глава VI
ПРОДОТРЯД
С широкой семейной скамьи у ворот видна улица в обе стороны. В этот час послеобеденного отдыха она пуста и тиха. Черным комочком перекатывается по серому песку мальчуган в рубашке до пят. Устав смотреть вдоль амбаров и редких домов, Филипп Иванович Косогов подавался вправо и тогда, сев вполоборота, видел весь свой двор, многочисленные сарайчики, навесы и закутки, штабеля березовых колотых дров и заднее крыльцо с подступившим к нему стадом гусей и уток.
Филипп Иванович любит, чтобы все было перед глазами, все то, что в руке и под рукой… При Керенском Косогов был избран старостой. Старостой остался и при большевиках. Свое деловое величие, признанное всем хозяйственным Докукином, он соблюдал строго и в бабий крик на кухне не вмешивался. Но сейчас всем своим вниманием Филипп Иванович ловил голоса жены, сестры Христины и приезжей городской барыньки.