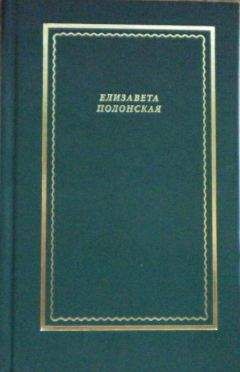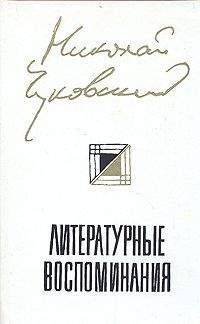Всеволод Иванов - Серапионовы братья. 1921: альманах
Полага, прикорнув у стога, не может подняться, чтобы в деревню идти. От самых утренников за работой напекло ей голову, тело источило зноем, обвеяло полевою тишью, полевым сладким духом. А теперь стога дурманят, кадят ладаном, что церковные кадильницы.
Мимо Ругай — шлепает ленивый его серый мерин. Ругай припал к луке.
Откуда он?
Что такое… какая тень в росистых полях, серый пыльный мерин, пуховая дорога, стога, солнце на зубьях и белый с рыжими подпалинами заяц. Чей сон, тоскливый и странный?
— Товарищ!
Пыль не слышит, виясь неторопливыми клубками. О горе надо рассказать не травке, не солнцу, не зайцу, а человеку, кто сможет приласкать и разговорить.
— Товарищ!
Ругай, навострив уши, заметил у стожка Полагу.
— Э, как вы тут?
Спрыгнул, пустив лошадь в молодняк.
— Откуда, товарищ Ругай?
— Кутили. Рожденницу праздновали, Пазову.
— И мой…
— Ион!
Нехорошо смеется Ругай, хрустя ледяшками.
— Э, кутим… Пакость всё. А вы — святая! Что вы думаете: пьяный человек… У пьяного-то всегда карман наружу. Вот говорят про меня одни: матрос, зверь… А я мучаюсь целую жизнь, радость ищу. И вот вижу теперь, что кругом сволочь народ. А я за них душу отдал. А теперь… как бы лучше сказать… как кислое молоко свернулся. Что думаю, если ошибка, понимаете…
Ругай почернел, вырубленное топором лицо будто обуглилось — головешка на пожарище.
— …если ошибка была? А на мне сколько крови…
Он упал перед Полагой на колени.
— Полага, родная, вы молиться умеете. А я не умею. За меня, жалкого, помолитесь. Какая ошибка…
Он посмотрел себе на руки.
— Они не пахнут?
Он спрашивал строго, углами срезались брови; и казалось, если она не ответит, может произойти ужасное.
— Чем пахнут?
— Ничем, товарищ Ругай.
— Ничем…
Задергало его, большого и ломаного, смехом.
— Пылью, может?
— Пылью… пылью… Может, и пылью. Верно, может, всё.
— Пыль. И жалеть не о чем. И вы Тимошку не жалейте. А вы… как бы лучше… да, бродяг разных кормите, киньте и мне кусочек… с вами, может, у меня все кончается, последняя вы моя зацепка на этом свете…
И жалкий, и милый, с полными слез глазами, — совсем не то, что в избушке когда-то у Пима, косолапое и неминучее, — сидел у стога, рядом с Полагой, Ругай и грыз, как лошадь, травинки прямо с землей, и все смотрел, обнимая глазами Полагу.
От кошеных трав, стогов, крутых и пахучих, вились сладкие, смертные духи.
А в голове у Полаги несносное, что давно так нудилось, от чего боязно было, что мурашками бегало по спине.
— …променял на Тайку… всё дела, дела…
Ладно!
…Что смотришь там, из-за кустика кленового кося, зайчуха? Счастье твое в овсах, в перелесках, под холодными дуплами… Наше горе по серому кошеному полю, у стогов, под июньскими светлыми небесами. Не выглядывай, незачем зверю высматривать тяжелое человечье горе, когда люди слабее и несчастнее тебя, труса-быструхи.
Полага наклонилась к Ругаю.
— На, милый… Целуй крепче. Всё одно.
Захлебнулась улыбкой, и забылся заяц…
Проснулись они лишь тогда, когда за бугром стало утренеть зеленое небо и по дороге плавно катил шарабан. Ближе шуршат по потной с ночи дороге бегунки-колеса, не спеша поспевая за лошадью. Пушков одной рукою правит, а другой придерживает Таю Пазову. Колеса пробежали, не заметив стога.
И только хотел Ругай припасть к Полаге, чтобы еще в чем-то покаяться или еще чем замиловать ее, ржаную и пышную, как она, скривясь от него, словно от сивушного перегара, отпрянула к дороге, увозившей Пушкова и Тайку.
Толкнулась за шарабаном, подумала — нет… Плюнула Ругаю в грудь.
— Уйди… уйди, пьяница, кровяник. Не люблю я тебя, лешего, слышишь? И не любила.
Побежала, как заяц от капкана, с опаскою оглядываясь. Ругай качался кувалдой, тыкаясь лицом в мокрый стог.
Полага торопится по лесной тропе к колу, за утешением Пимовым. Больно хлещутся на ходу мокрые елки. О чем они плачут? Не об ошибках ли наших?
И страшно Полаге при мысли:
«Хоть бы деточку мне ласкового… Ужели Бог меня Ругаем благословил?»
IX. Чирей
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана.
Боимся мы графини — овой,
Как вы боитесь паука.
А ведь мог бы быть цирульник Федя первым человеком на форту. Такая у него прекрасная и необыкновенная должность: украшать людей. Ведь когда постригут нас, побреют, причешут и посмотрим мы на себя, помолодевших, в цирульное зеркало, даже походка станет иная, и как бы ни было тяжко, тут вдруг бодрее станет; и из цирульника некоторым фертом выходим мы, и даже глаза поблескивают дерзко и молодо.
Но кроме цирульного мастерства, есть и другое дело у Феди: медицинские занятия. Сам он так их называет. А значит это: пустить кровь мужику, гной из ранки вычистить, дать рвотного, наболевший зуб выдернуть.
И Федя вечно занят; на себя ему даже оглянуться некогда. Оттого у Феди такой собачий вид; не усы, не борода — а собачий волос; и глаза покорные, собачьи, смотрит — будто хвостом виляет, и походка собачья.
Сегодня у Феди праздник. Вчера, с вечера обещала прийти к нему подстригаться Катя-следовательша.
В этой барышне, круглой и маленькой, с веселыми черносливинами вместо глаз, есть точно гвоздок, который нужно зубами вытащить, чтобы понять ее. А как вытащить? Никто не знает, кем она была раньше и почему теперь обрекла себя следовательскому, может быть, даже страшному делу? С тех пор, как Федя увидел Катю, ни на что другое не в состоянии он глаз отвести. Так и стоит всегда перед ним узкий смешок, походка белочья. Сегодня Федя решил открыться ей в своей тоске, гвоздок вытащить.
Дожидая Катю, Федя перетер все цирульные принадлежности и туалетный столик; и нечаянно вдруг увидел себя в зеркале.
— Пригож, нечего сказать…
Как-то до сих пор не обращал внимания на себя — в зеркале, будто он никогда, кроме того, кого надо было брить иль стричь, и не отражался там.
Федя взял гребенку и расчесал себе волосы на кривой пробор.
Надо бы Феде быть первым человеком на форту, а вот, подите, никто даже товарищем не назовет. Просто все кличут: Федя да Федя!
Когда пришла Катя, точно одеколоном вспрыснули комнату — так приятно Феде.
Заботливо укутывая Катю в простыню, Федя нежно касается пальцами теплой Катиной шеи.
— Не щекотно?
Катя улыбается, и он улыбается. Подстригая волосы, тоненько звякает ножницами; наконец решается вступить в разговор.
— Как дела, Екатерина Ивановна?
— Спасибо, Федя, работаем. Вот только товарищ Ругай что-то заболел, чирей, что ли, на шее у него вскочил, сходили бы вы к нему.
— Ничего, это быстро можно поправить. И не будет чирья; не только чирей, а всякую операцию горячим ножом можно сделать.
— От работы отказывается, порет какую-то чушь, точно с ума сошел.
— И это бывает, Екатерина Ивановна. Когда у человека в голове оболоночка такая лопнет и кровь с мозгами смешается — бывает…
Хочется Феде о главном поговорить, да не знает с чего начать. Выручила сама Катя.
— Что вы не женитесь, Федя?
— Женитьба — вещь солидная, Екатерина Ивановна. Некогда подумать, да и не об этом я, признаться, думаю. О любви я думаю, Екатерина Ивановна.
Катя опять улыбается.
— Ах, вы — Фигаро!
Федя на миг останавливает работу.
— Что вы говорите?
Потом опять принимается за свое, подбривая Катин затылок.
— Бритва не беспокоит? А что касательно любви, то ко мне многие партии солидные подбирались, да не терплю я, знаете, таких, под видом прошлых дам. У меня есть гвоздик, любовь есть, и изменить ей не могу…
— Что же не женитесь?
— Тут особое дело.
Федя вдруг мрачнеет.
— Не знает она, Екатерина Ивановна.
Катя снова улыбается.
— Смешной какой, а вы бы сказали.
И почувствовал Федя, что здесь началось самое страшное. Рука с бритвой на отлете, мыло с бритвы капает. А на Федю доверчиво и весело смотрит Катя; откинула назад толстенькую шею со складочками у подбородка. Упасть сейчас перед этими складочками, но может выйти совсем неожиданное; вдруг она сделает что-нибудь такое, например оплюет его, Федю; и тогда… эта бритва врежется в складочки…
Вздрогнул.
— Фу! Откуда поганое наваждение…
Катя смирная и доверчиво ему улыбается. Надо сказать.
— Люблю я одну, Екатерина Ивановна…
Да пока мямлил, обтирая мятной водой шею и лицо Кати, пролетело время…
Ушла Катя, не узнавши…
А на Катю разговор о любви действительно подействовал совсем неожиданно.