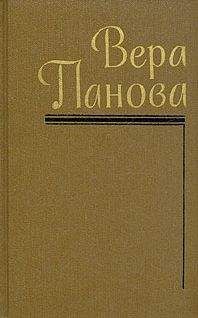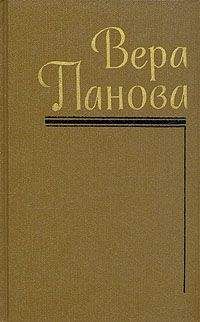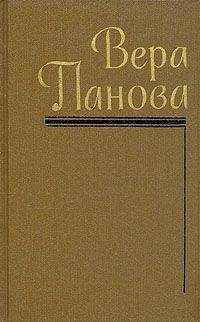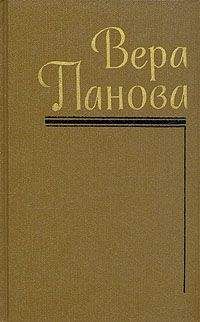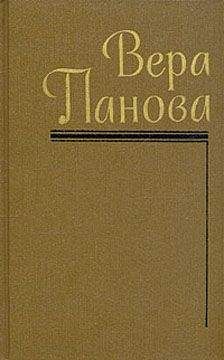Вера Панова - Собрание сочинений (Том 5)
И не удержался - сказал тем Ванькам и Петрухам, что стояли поближе, колпаки их торчали над краем помоста:
- Помираю за веру и правду.
Не раз он говорил им отсюда, лжесвидетельствуя, - пусть же будет им и последняя его ложь.
"Сейчас закричит кто-нибудь, как Петру Тургеневу: "Помирай, так, поделом тебе!" - представилось ему. Но никто не закричал, и лица были - он видел - равнодушны: никому дела не было, помрет он или жить будет.
"А хорошо, что мы оба в красных рубахах, - думал далее князь. - Зачем лакомить простолюдинов видом княжеской крови? Иван Васильевич много их лакомил, и зря. Что зря, то зря".
Палач взял его за ворот и потянул слегка. Князь подумал - пришла минута, но нет: топор все еще висел в опущенной руке палача, а это он хотел снять с князя рубаху.
- Оставь, милый человек, - попросил князь, вдруг почувствовав к своему убийце доверчивое и как бы братское чувство. - Оставь, пусть я в ней испущу дух. В ней я вчерашний день святых тайн удостоился.
И опять стояли друг против друга, разъединенные видавшей виды плахой, оба в красных рубашках, оба почтенные, оба седые, оба плешивые, не сразу угадаешь, кто кого сейчас казнить будет. А кругом, сколько взор хватает, шапки да платки, глаза да рты.
- А воротник сей, - продолжал негромко князь Шуйский, все больше преисполняясь доверием и дружелюбием, - воротник сей возьми потом, милый, себе. Помянешь меня за упокой, а уж меня, милый, уважь - разом руби, не томи.
Палач пощупал воротник - крупные жемчужины прохладно и атласно перекатились под пальцами - и ответил одним только словом:
- Гонец!
Князь Шуйский услышал слово и в молниеносно-радостной надежде поднял глаза. Ах, точно - от Троицких Спасских ворот, звонким стуком копыт пролагая себе в толпе дорогу, мчался конский стрелец. Он мчался, и никто больше не смотрел на место казни, а смотрели все на всадника - ох, как смотрели!
А он остановился у самого помоста, рукою в кожаной рукавице достал бумагу из-за пояса и стал читать громко, внятно, чтоб слышали:
- Великий царь Дмитрий Иоаннович, по христианскому своему милосердию, дарует жизнь князю Шуйскому, невзирая на многие вины его, и заменяет ему смертную казнь ссылкою в Вятку.
Он вернулся домой и первым делом достал из шкафа ларец, а из ларца зеркало. Голова крепко сидела на красной шее - седая, плешивая, почтенная, скорая на всякое соображение, дорогая, ненаглядная его голова.
БОЛОТНИКОВ. КАРАВАЙ НА СТОЛЕ
Что в тихом сердце его таилось
И что варилось в его котле.
Н. М а т в е е в а
Как на Ванины именины
Испекли мы каравай.
Каравай, каравай...
Х о р о в о д н а я
1. НОЧЬЮ У КОСТРА
Спиной к догоревшему костру лег Болотников, иззябшей своей спиной к груде золотого живого жара, и сперва ему это показалось хорошо: горячей побежала кровь в жилах, сладко заныли, выходя из оцепенения, суставы, и стал стихать окаянный озноб, что бил его, не давая передышки, три ночи и четыре дня. Но потом от его одежи, вымокшей под дождем, повалил пар, и пар этот, чудилось, собрался на спине в водяные пузырьки и стал закипать от жара костра, и каждый кипящий пузырек вонзался в тело, как гвоздь, и опять захотелось кашлять. А кашлять было больно, и он отодвинулся от огня - не отпустит ли его кашель?..
Кашель не отпустил. Болотников закашлял гулко, как из бочки, и опять почувствовал на языке вкус крови, и теплота крови потекла по его губам, и подбородку, и шее. "Плохо мое дело, - подумалось ему, - ой как плохо. И помру-то как собака, не на постели, не на лавке, не на маткиных руках, на земле под небом".
Костер, возле которого он лежал, был с четырех сторон обставлен санями с сеном. Получалась как бы загородка, как бы жилье, - это и было жилье Болотникова, единственное на всем свете. Сани долго мокли под дождем, а потом их заморозили на морозе, и от четырех этих стен несло холодом, как от костра жаром. И вся равнина, сколько мог видеть, поднявшись на локте, Болотников, была уставлена такими же загородками из обледенелых саней, и, верно, кабы глянуть сверху, это походило бы на пчелиные соты, только ячейки были не шестистенные, а четырехстенные. В середине каждой ячейки жарко блестело - костер горел, и вокруг костров товарищи Болотникова провожали ночное время - обсушивались, варили кашу и вытряхивали над огнем свою одежду. И поверх всего этого убожества и неприкаянности неисчислимо и пышно, как свечи во храме, переливались звезды.
Послышались во тьме неспешные шаги, Болотников узнал их. То шел Истома Пашков, дорогой друг, соперник и спорщик. Соперничали они в первенстве, но Истоме, как он ни серчал и ни усердствовал, не удавалось стать первым, ибо жизнь Болотникова была много богаче и страшней жизни Пашкова, и Болотникова, когда он говорил, слушали во все уши, а Пашкова слушали лениво.
Пашков учился у дьячка и любил толковать Священное писание, и все говорил о равенстве людей перед господом и о справедливости. Болотникову же довелось, будучи далеко на чужбине, в Италии, прочесть одну книжечку, называлась она "Государство Солнца".
Сам прочесть Болотников не умел - где же ему было читать на чужом языке, - другой гребец прочел и ему пересказал - товарищ по плену и по рабской службе на галере. Написал же эту книжечку некий монах по имени Фома Кампанелла. Видать, то был монах не из тех толстопузых, об одном только помышляющих - как бы набить свою мошну, каких вдоволь навидался Болотников и у себя дома, и в Италии, и в долгом пути от дома в Италию, когда он, пленник и раб, служил гребцом на турецкой галере и на этой галере пересек далекие страшные моря, где пили тухлую воду и мерли как мухи от солнечного непереносимого жара. Фома Кампанелла был, видать по книжке, мужик дельный и до простого народа добрый, и Болотников прослушал написанное им с великой жадностью и великим почтением к неведомому доброму Кампанелле.
И, исполнившись его мыслями, Болотников говорил о делах земных, а не небесных, и внушал своей ватажке, что дело все в том, как разделить земные блага, накопленные на Руси за множество лет в превеликом количестве, а самое главное - он каждому внушал недовольство своей участью, и они готовы были в огонь и в воду, чтоб добиться участи лучшей. Кто жаждал богатства, кто почетного звания, кто - власти, пусть самой крохотной. Они учились у Болотникова говорить зажигательные и важные слова и пересказывали эти слова другим людям, и жажда лучшей участи ширилась, и Смута вскипала на лице Русской земли, как пузырьки дождевой влаги на спине Болотникова.
Он кашлял и слышал, как булькало и хрипело в его груди, и ему становилось жаль себя, бездомного, безродного, с больной грудью, - но еще больше жалко было других людей, не видавших в жизни ничего, кроме обиды и скорби, даже не слыхавших о хороших книжках "Государство Солнца", и он исполнялся решимостью до конца идти своим путем, который неминуемо вел его к гибели, - конечно, это Болотников знал с первого дня, но не страшился.
И первая гибель могла быть такая: вот он со своей ватажкой въезжает на чей-то большой двор, где с четырех сторон на них смотрят раскрытые двери и дверцы, ведущие куда-то, где упрятаны мясные туши и жирные окорока, бочки с соленьями и пивом, кадки с душистым медом, овчины и подушки и всякое иное накопленное добро. И он, Болотников, говорит своим людям:
- А ну, ребята, разбегайся по дому, хватай все, что годится, довольно боярин надовольствовался, подовольствуемся же и мы, убогие.
И ребята ныряют в черные проемы дверей и дверок и волокут на середину двора бочки и кадки, мешки и овчины. И выводят за белые руки пышнотелую боярыню и холеных боярышень с косами до колен. А боярин, хозяин всего, стоит и смотрит, вылупившись как баран, покуда вытаскивают его мешки и кадки; но когда выводят боярышень - сердце его не выдерживает, он хватается за свою вострую сабельку и с криком: "Ах, разбойники!" вонзает ее прямехонько в больную грудь Болотникова. И тот безответно (а что тут ответишь?) падает у ног хозяина, в лужу собственной крови.
А вторая гибель могла быть такая. На знакомый двор въехали они, и знакомый хозяин вышел им навстречу - мягкобородый и пригожий лицом князь Телятевский, крепостным рабом которого был Болотников, на дворе у него и вырос. И Болотников сказал ватажке:
- Ребята, тут не грабьте и никого не пужайте, сей хозяин - мой князь, мы с ним без шуму обо всем по душам столкуемся.
А князю сказал:
- Князь, ты, чай, меня узнал - я Ивашка Болотников, холоп твой и молочный брат. Агафья Болотникова, раба твоя и кормилица - моя матка, и мы у тебя ничего не тронем, только вели моих молодцов хорошо угостить, бо мы третью неделю как мясного духа не чуяли и больно ослабли.
Но князь Телятевский не захотел толковать по душам, а запустил руку в карман кафтана, и вынул бумагу, и сказал:
- Как же, как же, холоп и молочный брат мой Ивашка Агафьин сын, узнаю тебя очень даже хорошо. Только нынче поутру призвали меня к воеводе, а там дали вот эту бумагу, а в бумаге написано и печатью припечатано, что ты есть разбойничий атаман и что по губернии бесчинств и грабежей чинится то все твоих пакостных рук дело. Так вот посуди, как же я вас буду у себя в доме угощать и привечать, - ведь тогда я выхожу твой товарищ и соучастник, а за это меня по головке не погладят. Так лучше уж я, молочный братец, с тобой иначе распоряжусь.