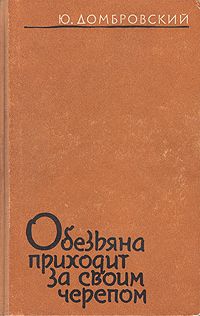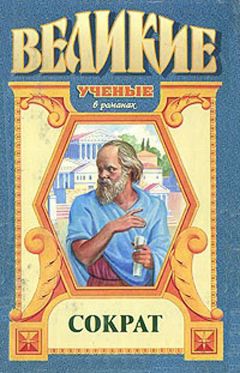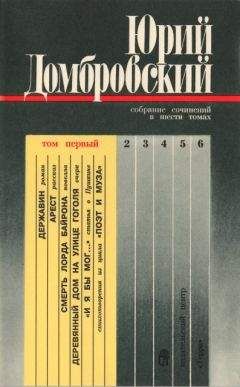Юрий Домбровский - Рождение мыши
Забрал он с катком очень высоко: каток находился далеко за городом, и чтоб добраться до него, надо было потерять целый день. В театре знали, что Нина Николаевна часто бегает по двору на «норвегах», но на загородном катке она не была еще ни разу и все только грозилась:
— Вот выберу выходной и уеду к Серапионычу в горы. Правда, дедушка Серапионыч?
И дедушка Серапионыч — разговор о катке чаще всего возникал при нем и из-за него — солидно подтверждал: «Как прикажете, как только прикажете, Нина Николаевна, так и будет, — много вами довольны».
Когда Костя сказал про каток, послышались восклицания. Кто-то обомлел: «Здорово!» Кто-то крикнул: «Не трепись ты!» А Онуфриенко, высокий, плечистый третьекурсник с эспаньолкой и усами, всегда одетый по последней моде, деловито, не удивляясь, спросил: «Сама предложила?»
— Сама! — ответил Костя.
— Толково!
Помолчали.
— Что ж, дай бог нашему теляти волка загнати, — вздохнула староста курса Надя Соколова, полная волоокая девушка, про которую на всех стенах писали: «Надя Соколова — поэтесса и корова». — У ней же этот журналист…
— Это еще какой? — насмешливо спросил Онуфриенко — он работал в филармонии кассиром и поэтому знал все театральные сплетни. — Уж не Семенов ли?
— Конечно, Семенов.
Онуфиенко грубо фыркнул:
— Ну, много же вы все, оказывается, знаете! Семенов тут ровно ни при чем.
— Ничего, а в кино всегда вместе, — улыбнулась Надя. — Нет, Костя, не связывайся. Только смеяться будут. Ты ее еще не знаешь. Она, когда ее трогают, такая занозистая, — и отошла, не желая продолжать разговор.
— Агентство ТАСС, — грубо усмехнулся ей вслед Онуфриенко, — все видим, все знаем! Кого же это она занозила? Заноза.
— А ты знаешь, как она Народного шуганула? — спросил кто-то. — Эх, и шуганула! Он ей что-то сказал такое, так она как повернется к нему…
— Правильно! Не лезь с поганым языком, — похвалил Нину Онуфриенко. — Какая уважающая себя женщина станет слушать Народного. Так при чем тут заноза? А Костя ей нравится, и всё.
Он сказал это «нравится» так твердо, убедительно и просто, что все замолчали. Еще постояли минут пять, поговорили сначала о том, что нет, это чепуха — ничего не выйдет, а потом о том, что это очень легко может выйти, ничего тут и хитрого нет, — что она тут одна, ей скучно, с актерами связываться не хочет, потому что знает — звонари, а Костя будет молчать. Таких случаев сколько угодно, например… и шли примеры.
— И потом, он молодой, сильный парень, — подытожил Онуфриенко, — таких бабы любят.
— А она старуха? — язвительно спросил тот же голос, что говорил о Народном.
— Не старуха, а знаешь, какие они выходят из ГИТИСа? — спокойно повернулся к говорящему Онуфриенко. — Москва, она, брат, слезам не верит, там так: сначала на диван, а потом на экран. Там… — Он засмеялся и взял Костю за руку. — Тебе, Любимов, в какую сторону? Ну, и я к парку, идем. Пока, товарищи!
— А что ж ты недоговорил? — спросил вдруг чей-то голос, такой злой, что Косте показалось: словно кто хлестнул бичом. Костя посмотрел — так и есть: говорил Рябов, его товарищ по курсу.
По лицу Онуфриенко пробежала быстрая гримаса, но сейчас же он оправился и свысока улыбнулся.
— А что мне договаривать? Что тебя именно интересует? Говори — я договорю.
— А ну, товарищи! — Рябов раздвинул толпу и подошел к Онуфриенко вплотную — у него было поджатое ненавидящее лицо, а на скулах прыгали желваки.
Все приумолкли — назревал настоящий серьезный скандал. Дело в том, что Рябов был любимец Нины, и это знали все. Она питала какую-то слабость к этому серьезному, хмурому парню с ярко-желтыми волосами и некрасивым широким лицом. Когда она входила в студию и видела ребят, она прежде всего искала глазами его и, найдя, ласково здоровалась: «Здравствуйте, Гена!» — и шла первая с протянутой рукой. Иногда же она, проходя, говорила: «Гена, есть разговор. Зайдите». И он деловито и хмуро кивал головой. Сейчас он стоял, стиснув кулаки, и смотрел на Онуфриенко.
— Да неужели подерутся! — весело ахнул кто-то, но все на него зашипели, потому что и в самом деле могли подраться.
— Слушай, что тебе надо? — вдруг спокойно и угрожающе спросил Онуфриенко. — Что ты прыгаешь?
— А то, что ты врун и пакостник, — крикнул Рябов.
— Я? Врун? — как будто очень удивился Онуфриенко. — Нет, это даже интересно! С какой же стати мне врать, что я, ревную, что ли?
Рябов стоял, тяжело дыша, он все время хотел что-то сказать и не мог.
— Я знаю, — начал он и осекся, задохнувшись. — Просто тебе досадно, что она… A-а, знаем мы таких субчиков, видели.
— Во-первых, не плюйся, пожалуйста, у тебя гнилые зубы. — Онуфриенко демонстративно обтерся. — И во-вторых — что ж мне досадно? Что? Что я не стреляю десятки у нее до стипендии? Да, я не стреляю — у меня свои есть. Я служу!
У Рябова только губы двигались, а слова с языка не шли.
— Что? Может быть, опять вру? — Рябов молчал. — Ну, то-то и оно-то. — Онуфриенко победоносно посмотрел на ребят. — И почему, когда я говорю, что у нее перебывало много мужчин, — это пакость? Ты что ж? Равноправия не признаешь? Что, женщина не такой же человек, как ты, ей не так же хочется жить? Ты можешь, а она — нет? Рассужденьице!
Кто-то угодливо подхихикнул, кто-то возмущенно сказал: «Вот скотина».
— Да на черта ты мне нужен со своими бабами! — вдруг взорвался Рябов. — Иди ты к дьяволу со своими шлюхами! Кот! А ее трогать не смей!
— А то что? — вежливо улыбнулся Онуфриенко и картинно погладил усики. — Пожалуешься? «Нина Николаевна, а что там про вас Онуфриенко рассказывает?! Я из-за вас поругался!» Ну, иди, иди, говори! Она тебе еще десятку до стипендии даст. Больше ничего таким не дают! Эх, продажная шкура, от кого получаешь — тому и мурлыкаешь!
Рябов молча размахнулся, но Онуфриенко ловко изогнулся, удар прошел мимо, и вдруг он схватил Рябова за обе руки и на минуту распял его в воздухе — вверх косым крестом и вниз.
— Ну? Ну? — сказал он насмешливо. — Ну, дальше-то что? Ну? Я же жду! — и вдруг так толкнул Рябова, что тот отлетел и ударился спиной о стену. — И имей в виду: это я еще тебя не ударил, а что будет, если ударю? Ты подумай-ка об этом! Идем, Любимов! А то еще расплачется: «Нина Николаевна, а меня за вас…»
Кажется, ясное дело, Костя сбрехнул, и всё на этом бы и кончить, — а то вот уж дело доходило до драки, — но не тут-то было!
Раз, раздеваясь в передней, — он пришел с занятий, — Костя услышал, что в его комнате громко разговаривают мать и тетя Оля, жена спартаковца Виктора. Ольга смеется и говорит: «Но, действительно, написать такое…», а мать проникновенно и со вкусом «декламирует»: «Но я боюсь за своего мальчика, я очень боюсь за него, Оля».
«Сейчас расплачется!» — с отвращением подумал Костя и повернулся, чтоб уйти. Ему всегда было душно в присутствии декламирующей матери, но в это время сзади появился отец и удивленно и строго спросил:
— Ты?! Эт-то что еще такое? А ну, войди! Подслушивать! — и толкнул дверь.
Мать и Ольга сидели и листали Шиллера — у матери в руках был один том, у тетки другой.
— Здравствуйте, — хмуро поклонился отец. Обе вскочили. — Ну что вы вгоняете парня в краску? Вот — он даже войти не решается — торчит у двери.
Тетка оставила Шиллера и, не замечая отца, бросилась к Косте.
— Котик! Красавец! Вот какие у тебя, оказывается, победы! Ну молодец, молодец! — и она стала его быстро и мелко целовать. — Семен, ты видел, что ему написала?
— Видел — глупо, — холодно ответил отец. — А что ты в таком ажиотаже?
— Она же такая красавица! — жалобно сказала мать. — Ты, наверное, не видел ее еще без грима? Ты посмотри, — и она сунула отцу в руки несколько карточек — все, что Костя собрал и хранил в Шиллере.
Отец бегло пробросал карточки в руках и положил на стол.
— Хорошо! Но при чем тут «победы»? Что ты крутишь ему голову и как-то хочешь все по-особому понимать? Не по-людски, а… — он махнул рукой.
— А когда женщина называет мальчика своим будущим партнером, как это понимать? — спросила насмешливо тетка.
И тут засмеялась мать, но как-то странно засмеялась — очень затаенно-старушечьи-шаловливо и мелко-мелко: словом, очень нехорошо рассмеялась. Костю так и передернуло.
Он повернулся к ней спиной и резко сказал:
— Нина Николаевна сама играла Луизу.
— Ах, так! — обрадовался неожиданной помощи отец. — Играла в той же пьесе? Ну вот и все! Вспомнила, как она тоже была щенком, и расчувствовалась — все понятно!
На этом бы и кончить, но тут тот же самый дотошный черт, что и давеча, дернул Костю за язык, и он ляпнул:
— Она меня приглашала на каток.
Наступило изумленное молчание.
— На-та-ша, — вдруг тихо и лукаво позвала Ольга, не отводя от Кости горящего кошачьего взгляда, — прощайся со своим мальчиком!