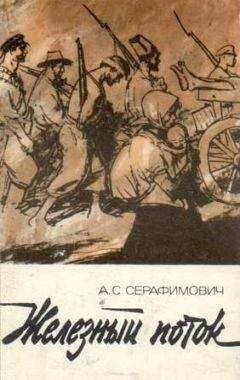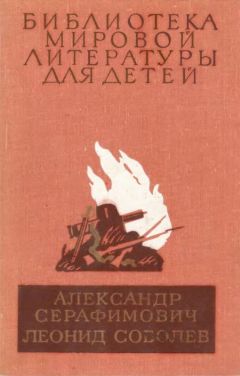Александр Серафимович - Том 6. Рассказы, очерки. Железный поток
Почему же так? Разве крестьяне не связаны кровно с советской властью? Разве они не дорожат ею?
Нет.
Отчего?
Да просто потому, что советская власть не почувствовалась населением как его собственная власть. Мало того. На исполнение обязанностей власти крестьяне тут смотрят как на подводную повинность. Это – тягость. И, как всякую тягость, они стараются разложить равномерно, чтоб никому обидно не было.
Каждый мужик ходит в советской власти по пяти дней. Так все по очереди, пока исполнение советской власти не обойдет всю деревню, – и опять сначала. Точь-в-точь как выполнение нарядов подводной повинности.
Почему же это так?
Крестьянство темно, инертно, и, главное, хождение во власти не оплачивается, должностным лицам ничего не платят. И крестьянин каждый рабочий день, обращенный на исполнение власти, считает за чистую потерю.
Разумеется, таким положением с величайшим наслаждением пользуются кулаки-богатеи. Они освобождают крестьян от тяготы власти, забирают ее безраздельно в свои руки и устраивают свои дела.
Вот пример.
За Могилевом, недалеко от Березины, в ближайшем тылу есть местечко Шипелевичи. Кулаки и богатеи забрали совет в свои руки, очень выгодно поделили между собой помещичью землю, скот, лошадей, мертвый инвентарь, а беднота ходит да облизывается. Совет держит ее в ежовых рукавицах.
– Отчего же вы не переизберете совет?
– Да хто же его знает… Как его! Вон выборы были, так они так все отделали, что мы ничего и не знали, – глядь, а они уже на нас верхи сидят, так и везем.
– Почему же вы не обратитесь в уездный, губернский исполком?
– Да ведь на выезд они же и не дают разрешения. Так и сидим.
– Бумагу послали бы.
– А на почте дураки, што ль? Нет, никак не выходит. И в губернии они сумеют так дело представить – мы же и виноваты окажемся. Сказывают все – советская власть, а оно – вон оно што.
– Под лежачий камень вода не течет. Вот что: пошлите человека в Москву, уж как-нибудь всеми правдами и неправдами проберется.
– Да это што, это можно.
– Ну вот. Это ведь не для одного местечка, а для всей округи. А в Москве все вам по-настоящему устроят. Есть такой отдел советской власти: отдел по работе в деревне. Мужиков страсть там толпится, и всех устраивают.
Мужичок торопливо зачесал брюхо, потом спину, поскреб затылок и стал прыток.
– Ах ты, прости господи! А мы и не знали. Беспременно надо достукаться.
В тылу нашей армии иногда появляются шайки, очевидно организуемые польскими агентами. Они пытаются нападать на обозы, портить железные дороги. Устроили два взрыва; один прошел благополучно, а в другой раз пострадал поезд.
Если население будет помогать бандитам, они неискоренимы и произведут колоссальные разрушения.
Если население будет безразлично, шайки с трудом будут существовать.
Если население поможет Красной Армии ловить эти шайки, существование их абсолютно невозможно.
Отсюда вывод один: ближайший тыл армии, безусловно, под страхом самых тяжелых последствий должен быть обслужен коммунистами.
Но где же их взять?
Добыть их во что бы то ни стало нужно и послать на эту неотложную работу.
Конечно, для всего тыла, даже в узкой его полосе, работников не хватит. Тут выход один: создать летучие отряды коммунистов, которые обслуживали бы узкую прифронтовую полосу.
В отряде достаточно двух человек. Они поделят между собой деревни данного района и объедут их. Это будет иметь громадное значение.
Но это должны быть надежные, опытные коммунисты и, главное, молчальники, чтобы поменьше говорили. Чтоб ни под каким видом не начинали, как обычно, придет и заведет: «Советская власть есть власть…», и т. д.
А чтоб приехал и прямо в совет: богатеев разогнал, кулаков по шее, мошенников в тюрьму. Потом перевыборы, чтоб беднота и середняк их сделали, потом перераспределить землю, инвентарь живой и мертвый, который загребли кулаки, обратить в общественное пользование.
И только после этого можно заговорить, сколько душе угодно: «Советская власть – рабоче-крестьянская власть трудящихся…» Впрочем, чего же говорить. Мужики, почесываясь, сами заговорят:
– Ишь ты, а!.. А мы и не знали… а оно вон оно…
И армия может чувствовать себя как дома.
Во время наступления Юденича в приозерных районах крестьянство, в массе зажиточное, с нескрываемой враждой относилось к Красной Армии и ждало Юденича.
Пришел Юденич, обобрал, поиздевался, был прогнан. Крестьянство возненавидело его, но не стали относиться лучше и к Красной Армии. Им и митинги, и собрания, и речи – ничем не проймешь, волками смотрят, и шабаш! И на митинги не загонишь.
В расположенных в приозерье частях оказался прекрасный подбор комиссаров. Они взялись с другого конца: вошли в местную жизнь, устроили неделю чистоты: красноармейцы вычистили веками накопленную грязь во дворах, на улицах, в избах, в сараях; все деревни вычистили. А комиссары вычистили все советы от кулаков, мироедов, мошенников, а особенно подлых и расстреляли.
Крестьяне остолбенели. И тут все повалили, и стар и мал, на собрания, на митинги, в читальни, в кинематограф, и нужно было видеть, как все, не отрываясь, затаив дыхание, слушали речи о советской власти, о ее структуре.
Красная Армия, до того голодавшая, стала купаться как сыр в масле, – крестьяне тащили и вареным, и пареным, и жареным. Красноармеец стал как бы членом семьи: садятся за стол и его сажают, а он потюкает по двору топором, вытешет ось, поправит плетень.
И если бы после этого надвинулся Юденич, он бы издох в непрерывной борьбе с населением.
Вот такую атмосферу действенной любви и расположения к Красной Армии необходимо создать и на польском фронте, но создать не языком, не митинговыми речами, а делом.
Повторяю, это дело надо сделать сию минуту.
Горное утро*
Еду один верхом с районного съезда. Кругом ни души. Сытый конек сторожко посматривает ушами то в ту, то в другую сторону и идет иноходью, покачиваясь.
Справа бесконечно зеленеют хлеба; слева – голубые Кавказские горы, и тучи низко и ровно срезают их.
Из боковой лощины подымается всадник верхом. Бурка расходится на нем, покрывая лошадь, торчит винтовка, выглядывает кинжал, с шеи сбегает шнур к револьверу. Рожа не то чтоб разбойничья, но я все-таки огляделся – никого. Губы у него запеклись.
– Драствуй!
– Здравствуй!
Кони, мотая головами, пошли рядом.
– В город?
– В город.
Долго едем молча, и я думаю: ловки они, как бесы, и я справиться не успею с своим браунингом, как он сделает все, что ему нужно. Он посматривает искоса и говорит ломанно спекшимися губами:
– В Варшава я служил, еще не был война. Город знаю, все знаю. Как в Москва делам?
Я рассказываю; он жадно слушает, задает вопросы. Иногда я с трудом понимаю, – так ломанно он говорит, но чувствую – бывалый человек и, по-видимому, разбирается в основах советской власти. Между прочим, тоже был на съезде делегатом.
– А скажи, как товарищ Ленин там?
– Ничего, работает. Стреляли в него.
– Кто стрелял?
– Помещики, капиталисты, генералы подослали таких, что стреляли. Ранили. Выздоровел, теперь работает.
– Ну, дай ему бог здоровья. Хароший шаловек. А пуля таскал с него?
– Пуля осталась. Не мешает, здоров по-прежнему.
– Пущай таскал пулю с себе, а то пуля абрастал в шаловеке горьким мясам. Поедешь Москва, скажи ему, пускай дюже таскал пуля. То все Деника, – его дела… Ух, балшой падлец!..
Он внезапно толкнул лошадь в мою сторону, так что звякнули наши стремена, весь перегнулся, опираясь рукой о кинжал, и спросил:
– Скажи, товарищ: товарищ Ленин опять будет править?
– Через четыре месяца соберутся выборные от всех рабочих и крестьян в Москву. Скоро и ваши выборные поедут туда. Вот соберутся, позовут товарища Ленина и спросят: «Ну как, товарищ Ленин, ты правил нашими делами?» Товарищ Ленин все расскажет до ниточки, как правил. Подумают, подумают рабочие и крестьяне, – хорошо правил, и скажут: «Ну, заправляй и дальше нашими делами». А если бы товарищ Ленин маху дал, рабочие бы сказали: «Ну, товарищ Ленин промашку дал; делать нечего, другого выберем».
Он, перегнувшись ко мне, как будто в его теле не было ни одной косточки, жадно слушал, полураскрыв спекшиеся истрескавшиеся губы.
– Хорошо! дюже хорошо!.. Скажи там Москва, пущай правил делам. Скажи там Москва, будет Деника иль какой другой падлец, будем рубиться совсим с мясам, – и он слегка выдернул и опять втолкнул в ножны кинжал.
Дорога раздвоилась: влево пошла в горы, вправо – к засиневшему вдалеке городу. Он повернул налево.
– Прощай.
– Прощай.
Я смотрел на его удаляющуюся фигуру и чувствовал: будет рубиться за советскую власть, пока все мясо с него срубят.