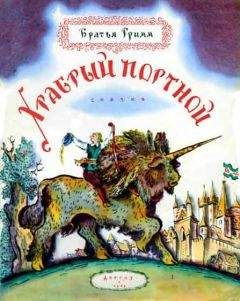Нина Буденная - Старые истории
— А ну ее. В кои-то веки к тебе выбралась, а она тут сидеть будет.
— Ты о чем поговорить хотела? — забеспокоилась мама. — Что-нибудь неладно?
— Я выдумала, чтобы эту выпроводить. — Анна Павловна потрогала себя за длинноватый, но сильно облагороженный мамой нос.
— Нос не крути, — сказала мама.
Анна Павловна отдернула руку.
— Альфред хоронить мать приедет?
— Кто же это его из колонии отпустит?
— Так он же вроде расконвоированный?
— Что ты в этом понимаешь? Я тоже ничего. Сестра его туда телеграмму отбила, там видно будет.
— Эдит не вздумает мать в церкви отпевать?
— Вроде не собиралась. Потом, думаю, закажет по ней тризну, или как там у них? Эдит в последнее время совсем очумела, в церковь бегать стала, вырядилась как монашка. Сестра ее — та поумнее была.
Старшая дочь Варвары умерла рано, лет в тридцать, и погибла мучительно от нечастой болезни — волчанки.
— Я Эдитку все равно люблю, — сказала Анна Павловна. — Второй такой доброй бабы не знаю. А талантливая какая! Все погибло, ничего не раскрылось с этим теткиным воспитанием.
— Даже школу не закончила. Это в наше-то время!
— Так ведь на войну ихняя школа пришлась, в эвакуации училась.
— Другие-то выучились. Виктория только и знала, что с кавалерами по бульвару шастать. А Эдит целыми днями перед зеркалом сидела, брови выщипывала, а потом на пустом розовеньком месте новые рисовала. Тоненькие такие.
— Скоро и эта забота отпала, — засмеялась Анна Павловна. — Брови вообще расти перестали. Но Эдит дождалась своего часа: снова мода на безбровье вернулась.
— По-моему, мы с тобой сплетничаем.
— Немножко посплетничать для женщины даже полезно. Вроде разминки.
— Как она теперь будет, одна совсем?
— Я ее на работу устрою.
— Справится ли? — засомневалась мать. — Не работала никогда, да ей уж и пятьдесят. Кто возьмет?
— Я возьму. Мне лаборантка нужна. Эдитка хваткая и аккуратная, как немецкий аптекарь. Такую мне и подай.
— Ты что, родственность разводить!
— Где теперь этого нет? Да и тоже должность нашла: лаборантка. Это не синекура, а работенка в поте лица, к тому же и малооплачиваемая.
— Ты возьми ее, возьми, — жарко заговорила мать, — жалко мне ее не представляешь как. Дети родные от человека отказались, стервецы такие.
— Тоже заплатят, до четвертого колена! — мрачно сказала Анна Павловна.
Обе задумались, и мысли их были печальные-печальные.
Эдит рано вышла замуж — прежде старшей сестры, которой замужество не светило: волчанка обезобразила лицо. Добрая душа, покладистая, легко поддающаяся как напору, так и внушению, она целиком растворилась в муже — маленьком, живом, упрямом мужичке, который занимался техническими переводами.
Эдит быстро родила двоих ребятишек, также быстро выучила два языка — немецкий и французский — и сидела дома, одной рукой нянькая детей, готовя обеды, завтраки и ужины, другой делая за мужа его технические переводы.
А тот в это время пел тенором в хоровом кружке своего министерства.
Он, значит, поет, она переводит, кормежку стряпает, сына от туберкулеза лечит, дочке искривление позвоночника исправляет, на родительские собрания носится и, естественно, семимильными шагами духовно отстает от мужа, который в это время поет тенором.
Отстала. Муж с ней за это развелся, но продолжал жить в той же квартире, по-прежнему отдавая ей часть своих переводов. Правда, теперь он за них платил — по собственной таксе. И Эдит в переводах была очень даже заинтересована.
Экс-супруг не только эксплуатировал бывшую жену, но, естественно, пел тенором и этим же тенором убеждал детей в ничтожности их матери.
Детей Эдит мама и Анна Павловна знали плохо, но все равно они им что-то не очень нравились. Неуважительные, непослушные, самоуверенные, грубоватые, напыщенные, а достоинств нулежды нуль.
— Я, может быть, примитивно рассуждаю, — говорила Анна Павловна Эдит, когда та приходила к двоюродной сестре выреветься, — но он хочет разменять квартиру так, чтобы дети остались с ним. И тебя вытолкнуть в коммуналку.
— Дети ему не нужны, — рыдала Эдит.
— Нужны, для метража.
— Ко мне Анечка вчера подошла и говорит: ты нам с Сережей алименты, что платит отец, в руки отдавай, мы сами питаться и одеваться будем. Слыханное дело? Обедов, говорит, не готовь, мы их все равно есть не станем.
Эдит размазывала по лицу мокрень, сморкалась в платок, начисто смывая брови.
— Если ты права, и у него цель отселить меня, я к матери уйду, что я буду их комнаты лишать? — захлебываясь, говорила она. — Я из-за детей не ухожу, как я без них? А со мной, вижу я, они не пойдут… Маленькие еще, — вздыхала она, — Сережа в десятом, Анечка — в девятом.
— Маленькие, да удаленькие.
— Нет, они хорошие.
Хорошие сказали, что останутся с отцом. Тот нашел вариант обмена: им двухкомнатную, Эдит восемь метров в многонаселенной. Она собралась и ушла к тетке Варваре. А у той уже не было сил, чтобы сгноить проклятого зятя.
А Эдит слегка тронулась. Вдруг зачастила в церковь, глупости какие-то святые бормотать стала.
— Тетка ведь не была особенно набожной, — сказала Анна Павловна.
— Похаживала в церковь, похаживала, — сказала мать. — Грешила да каялась. Вот бабушка в бога не верила, хотя крестик и носила. Ты помнишь, у нее через нос шрам шел?
— Не помню. А отчего шрам?
— Она, еще в гражданскую, уже после того, как деда белые расстреляли, пошла как-то в церковь, то ли на исповедь, то ли помолиться за папу, чтобы цел остался. Встала перед попом на колени, хотела крест поцеловать. А он этим здоровенным медным крестом как шарахнет ее по лицу. Нос и перебил, она ведь носатенькая была. Как папа говорил: нос на семерых рос, а пришлось одному носить. С той минуты она с верой в бога и покончила.
— Завязала, — уточнила Анна Павловна.
— Ну да, я и говорю — завязала. А крестик носила: на всякий случай, говорила, кто знает, — мама пальцем указала в потолок, — вдруг там все-таки что-то есть. — Засмеялась: — Вспомнила, папа рассказывал. Привез он из деревни мать и Варвару, поселил у себя. Вечером зашел к ним в комнату, а те обе стоят и юбками что силы только есть размахивают: лампочку электрическую гасят. «Что, — говорят, — Паша, у тебя за лампа такая, задуть не можем».
Мама снова засмеялась, и лицо у нее стало особенное, каким становилось всегда, когда она думала об отце.
— Около папиной деревни конзавод был, так многие деревенские при конюшнях состояли. Папины-то крестьянствовали, землю арендовали у хозяина завода. А Варвара — та в горничных у управляющего служила.
— Где почище да полегче, — влезла Анна Павловна.
— Рассказывала, когда белые через их места отступали, офицеры, конечно, у управляющего остановились. Пили по-черному и все ее погадать просили, какая, дескать, судьба им уготована. Она им и объясняла, что ожидают их всяческие беды и несчастья, дело их окончится полной неудачей и улепетывать им нужно как можно скорее.
— Ну да, революционерка, — резюмировала непреклонная Анна Павловна.
— Что ты на нее так? Нет ведь уже человека.
— Добрая ты женщина, мама.
— А чего мне быть злой, Аня? Я очень счастливую жизнь прожила. Папа у нас какой был, да и вы меня не очень огорчаете. То есть огорчаете, конечно, но когда оглянусь вокруг, то понимаю, что дети у меня хорошие. Я как-то девчонкой, лет двенадцать мне было, из деревни к дядюшке в Козлов приехала на каникулы, он там учительствовал. Гуляла во дворе, вдруг — цыгане. Одна подошла ко мне, говорит: «Я тебе погадаю». Я говорю: «У меня денег ни копейки». — «А я так, бесплатно. Судьба у тебя интересная. Будешь ты жить всегда хорошо и радостно. Замуж выйдешь за Павла. И доживешь до семидесяти пяти лет». Вот. Ерунда, конечно, но любопытно, — и снова засмеялась. — Когда в институте училась, за мной один однокурсник, Павел, ухаживал. Такой сморчок плюгавенький. Я очень расстраивалась: вдруг, думаю, это он. Так что, если по гаданию, мне еще десять лет жить. А делать тут мне вроде бы уж нечего. Вас вырастила, внуков тоже. А на правнуков меня уже не хватит. Да и надоело. Ты-то вот чего разворчалась?
— У меня сегодня день критического восприятия действительности. Надо бы перебить чем-нибудь.
— Настойки женьшеня выпьешь?
— Тю! Тут без пол-литры не разберешься, а ты — женьшень.
Вкрадчиво подал голос телефон.
— Муж тебя, — передала трубку мама.
— Аня, меня занарядили на это ваше совещание идти. Во сколько там начало?
— В семь, но я, Ванечка, туда не собираюсь, — Анна Павловна даже расстроилась.
— А я, дурак, обещал, думал, тебя там увижу. Вот черт! И поесть не успел, жрать хочу — сил нет.
— Ванечка, с ума спятил, что же, так и мотаешься весь день голодный?