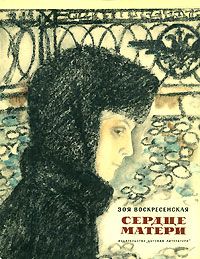Александр Малышкин - Вокзалы
; — Друг ты мне?
Г — Друг.
— Можбыть, сичас друг, а вот ученье пройдешь, к благородным пристанешь… С господами зачнешь гулять.
— Ну их к черту! — Толька махнул рукой, как на плевое.
Такой вот ночью проскачет гиком с поля, рванет разгулом, гибелью — и канет: обступит опять ночная всемирная глухота. Обманная это глухота: где‑то за ней валится и шатается тысячегорлый крик, шатаются огромные земли — идут там страшные и сверкающие времена…
Не оттуда ль донесется?..
Тесные, убогие стояли улицы, низко придавленные ночью. Ветры обдували каланчу над мутным базарным изволоком, от колоколов церковных сам собой шел тихий звон — из времен дальних. В эту ночь, в эту тоску — молодости караулить у крыльца, целовать теплые, вырвавшиеся тайком на минуту, торопливые губы — упасть в ветры, забыть!.. — но не было никого, плутали двое сквозь уездную ночную нежить, толкались друг о друга. За араповским садом мутно и осанисто плыли. белые колонны, в колоннах пустой дом; чудились дворцы, ее вальсирующие ноги… нехорошо свистел ветер в заречных ветлах.
— Нестройно у меня на душе что‑то… — говорит Толька, — выпить, что ль…
— Айда выпить, — соглашался Калаба.
Шли в слободу, к ногайскому валу, стучали в окно хибарки; в хибарке при мутном светце, шепотом разговаривая, пили брагу. Черные были в сумраке, в избяном хлебном духе, бревенчатые задымленные стены, из пакли выползало тараканье, шуршало по лавкам, по лубочным образам — и качались, и занывали, и запевали зыбкие, сладкие стены. И вот — гиком нзил ошалевший ямщик, гоня с полустанка, из бескрайних, праздничных, озаренных земель; она вставала из пенного, вся в забытьи, распахнутые комнаты гремели за ней; и вот — глянет безволосое лицо, мимо глянет замученными глазами, и жидким огнем потечет на сердце — и огромная какими‑то ветрами, призывами топит, расхлестывается, мчит в себя жизнь!
Застонать бы…
— Нестройно, ч — черт, у меня на душе что‑то…
Калаба облокачивался против него — угластый, истуканный, глаза ворочались в черных подлобинах, бес тоскливый там тошно метался.
— Друг ты мне? Ску — ушно… Все равно — угонют… Айда на вал песни петь!
Какие там на валу песни — за самым валом, в низах темь бездонная, черная, как омут; в темном ходят на свободе, ухают ветры до неба, воет из омута покойничья жуть…
На горбине наверху вставали, пошатываясь, дышали в темь.
Калаба мямлил развислыми толстыми губами:
— А вот, говорят, мертвецы ночью выходят, Натолий. По — моему, это одна хреновина! Чего же они нам не кажутся?
Издеваясь, горланил в темь:
— Эй, вы — ы!.. Кажись!..
И вдруг в бешенстве рвал камень из земли, швырял его под кручу, топал ногами, выл:
— Эй, вы — ы-ы, ва — шу!.. Кажи — ись!..
И на Тольку тоже перекидывалось — слепое, жмы- гающее зубами, так вот б — бы… стервенея, заплясывал на валу, слезы текли от злобы и озорства, визжал, визжал:
— Вы — хо — ди — и-и — и!.. Вы — хо — ди — и-и — и!..
Пляской гудело, вывизгивало весело над ними:
…э — э-э — и-и!..
Ночь была под Рассейском.
Ветром бесновалось в поле, крутило; шли и шли где‑то телеги, стуча по мерзлому, нет — нет да занесет бабьим воем на ногайский вал, нет — нет да свистнет ямщик; пролетая — и — и-ихх! Ва Львови — и-и — и!!!
…учуяв, просыпались, вылезали из‑под земли суворовские, николаевские; выпучив глаза, слушали — было им все это родное — что тысячами гнало из деревень, что опять шли удалые, служивые на чужую землю. За этими вылезали еще, встающими полнились поля; вставали с Шипки, с ледяных гор, с горючих туркестанских песков; еще вставали мраки.
В ночи надевали мундиры, натягивали царские медали на костлявые сухие груди. Бегал, стуча им по грудям, равняя, старый заслуженный унтер, шепотом кричал впалыми губами; горели на ветру белые клочья бакенбард. В ночи с воем колыхнулись, побежали в полях — суворовские, александровские, бежали тени тыщ, бежали мраки. Или это ветры мутились в ночи под Рассейском, за ногайским валом?
* * *Перроны, горизонты рельсов, как она в зовущие безбрежные миры — это там когда‑то станционные барышни гуляли на закате; за водокачкой стеклянно розовела, вечерела перепелиная степь — в перроны падал скорый Севастополь — Москва; в вечере, сияя зеркалами международных, стоял три минуты над станцией — над бакалейщиками, чиновным людом, ждущим вечернего, над ходоками и богомолками, лежащими в чумазых зипунах и лаптях под вокзальным забором — стоял цветущим миндалем, волной туманных гурзуфских сумерек — мимо перронов, полей бежала тень чужого, горько волнующего счастья; теперь закрутило, завалило все серой солдатней, на Тулы, на Ряжски, на узловые поперло скопищами, волостями кислого избяного духа, базаров, гармонной разлушной тоски; в помещениях уже было негде — расстелилось вповалку по перронам и за перроны — по садикам, площадкам, по земле — до незнаемых там каких‑то концов; смрадно спали ничком, уткнувшись в чужие сапоги, тут же ели, пили чай из жестяных чайников, ждали на Брест, на Смоленск; с воли ломились еще, с мешками на горбах, с матерщиной злобно косолапили в давку, прямо по головам; воинские ползли без останову, пронося чадные внутренние печи теплушек, свисающие с нар бедра лежащих, множества мутных, оторопелых, увозимых глаз — гудки кричали день и ночь.
И те невидимые, мыслимые где‑то наверху, день и ночь вели тысячу поездов через вокзалы. Чтобы держать покорным и беспамятным многомиллионное человечье море, вы- хлынувшее из земляных утроб, чтобы вливать его в нужные русла, — тысячи, миллионы мыслимых нитей протянулись от них в пустоты; и море покорно и беспамятно ползло на запад, как хотели.
Не спуская с него глаз — днем и ночью — дежуря и бодрствуя у карт, у проводов, у письменных столов, работали, напрягали в пространство мыслимую свою волю министерства, думы, союзы, штабы, ставка, императорский поезд, — море шло в крепкой узде — в путанице пересекающихся, ветвящихся друг из друга мыслимых влияний;
через провода, через фельдъегерей с секретными пакетами изливалась непререкаемая, знающая за собой века повиновений воля, — море шло на запад тьмами толп, над мутью голов, свалок, трупных напластований реяли заповедные земли и воды, еще в туманах… из толп было видно на западе тьму, черную в полночах смерть солдатскую землю.
И тот — с четвертого этажа — все думал, что через последнюю крестную муку, через очищение, несут миру свою неслыханную правду; с бумажных страниц мертвые, великие вставали в своих оживающих ночах, страницы бредили о грядущих царствах, — качался, стискивая голову руками…
А из Рассейска везли на запад, в Восточную Пруссию запасных, везли Эрзю. Запасные назывались 2–я армия. Эшелоны шли в Восточную Пруссию день и ночь.
И вот где‑то там оборвались колеи, доехали, стали поезда; доехали запасные, Эрзя. Дальше пошли, наверно, пешком; писали оттуда, что ночевали в чужих избах и дворах, что народ кругом был крестьянский, но говорил чудно — когда поймешь, когда нет. Трудно было привыкать особенно мордве: хлеба она не сеет, дровоколы, люди лесные, знает мордва по Рассейскам только пилу- певун, топор — колун. Профессор тактики читал в Академии Генерального Штаба: «в мировой войне оружие машинное. Тяжелая артиллерия, авиация, бронесилы изменили условия боя. Особенность боевого порядка — 1 человек на I—5 шагов, глубина на разрыв шрапнели». Они этого не знали. За Рассейском вот — запавшие в душу казенные леса; раньше были эти леса муромские; осина, береза, орех; молятся в лесах не то Христу, не то богу Кереметю; родники в листвяной земле, словно рай. Глубина на разрыв шрапнели — это для того, чтобы не разорвало белое Эрзино тело. А было оно белое, теплое, болело от тоски и дорог…
И кому‑то дали там вести людей по страшной земле, где нужно ползти, прятать за землю голову, чтоб не убили. Эрзю водили по полям, он шел; вел кто‑то великий, темный и верный, как Христос, как Кереметь. И вот — это вдруг: нарвались— и в прорву, в крошево два корпуса — это с теми, которых повезли на ильин день из Рассейска, оплаканных, в обцелованных, исслюненных сапогах; это со 2–й армией ген. Самсонова; это под Сольда>в 1914 году.
Так:
— Гинденбург принял командование над 8–й германской армией против 1–й и 2–й русских; Гинденбург, оставив ландверные части и кавалерию против 1–й, обрушился всеми главными силами на русскую 2–ю армию. 2–я армия была уничтожена.
Так было в секретном донесении по телеграфу.
Гинденбург применил банальный стратегический (наполеоновский) прием: этого не предвидели. Были случайности дурной связи между корпусами. Говорили, что еще нехороши были здесь глаза женщины, тяжелые и зеленые, той, что ночью приезжала в Пассаж…
Но вторая армия — она долго собиралась по мобилизационному расписанию, в ильин день, пришла из полей к вокзалам с котомками, чайниками, бабами; бабы выли, как полагается, мужики не смотрели на них и окрикивались, поодаль стояла безволосая унылая мордва; ехали через вокзалы, через города, в солдатском краю прели по избам, кипятили чай, пища им была горячая, сытная — вторая армия была уничтожена, мир был уничтожен.