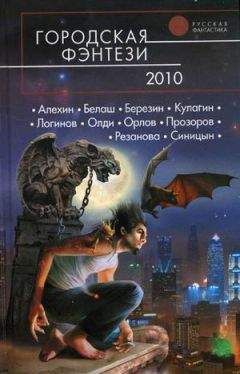Леонид Соловьев - Новый дом
Хлеба стояли плотные, рослые; особенно радовало, что не захирели участки, посеянные намного раньше обычного. Желтая, солнечная тишина стояла над полями, – казалось, замри – и чутким ухом услышишь, как дружно, враз, тяжелеет колхозный хлеб.
Крепче прежнего налег Кузьма Андреевич на работу. Да и не мог иначе. Во-первых, подгоняли мысли о новом доме. Во-вторых, обязывало звание члена правления и лучшего ударника. Возвышенному человеку отставать в работе не дозволено, возвышенный человек у всех на виду, сразу предадут его позору. А с большой высоты падать больнее – это Кузьма Андреевич хорошо понимал и боялся. Он уже привык к всеобщему уважению – на собраниях слушали его с таким же вниманием, как самого председателя, в затруднительных случаях бежали к нему за советом.
Было еще и другое, что Кузьма Андреевич и сам в себе не сознавал. От дедов и отцов передалась ему, как всякому старательному мужику, строгая хозяйская заботливость; он шестьдесят с лишним лет носил в себе эту заботливость и никуда не мог приложить. Когда батрачил у Хрулина, руки не поднимались работать по-настоящему: кусок все равно чужой, не получишь с хрулинского стола даже крошек.
Томила Кузьму Андреевича хозяйская тоска. Хотелось выйти в поля, хлеб посмотреть, сбрую проверить, жеребца погладить по широкому желобчатому крупу, взбучку задать какому-нибудь нерадивому сторожу, хотелось, чтобы хозяйство чувствовалось в руках, как туго натянутые вожжи.
Теперь, будучи членом правления, значит старшим хозяином, он выходил в поля и узнал, что для хозяйского носа зреющий хлеб пахнет совсем по-другому, чем для батрацкого. Проверял Кузьма Андреевич сбрую, не пересохла ли в душном сарае, гладил жеребца, пуская большой палец по желобчатому крупу, отчего жеребец поджимался и дрыгал задней ногой; щупал Кузьма Андреевич животы у кобыл и коров, давал взбучки нерадивым сторожам и знал при этом, что никто не посмеет сказать ему: «Полез, старый хрен, в чужие сани», как сказал однажды кулак Хрулин, потный, красный и медноликий, похожий на самовар.
Большое лежало перед Кузьмой Андреевичем хозяйство, чувствовал он в руках выструненные вожжи.
10
Мужики сидели на крыльце правления, ждали председателя, который еще вчера уехал в район.
Темнело; над речкой Беспутой густо поднимался туман, затапливая побережье, казалось – деревья, как в половодье, растут прямо из воды.
По бревенчатому мосту загрохотала телега – и рухнули во второй раз мечты Кузьмы Андреевича о хрулинском доме.
Гаврила Степанович привез с собой доктора. Мужики гурьбой отправились вслед за телегой к амбулатории.
Представительностью фигуры, солидным блеском очков в роговой оправе, густым голосом доктор сразу расположил к себе мужиков. Он легко поднял кожаные, с медными сияющими замками чемоданы, внес на крыльцо и пошел вместе с председателем осматривать амбулаторию.
Мужики переглянулись. Кто-то сказал:
– Мужчина солидный весьма.
Тимофей, вспомнив о своей грыже, охнул и присел, схватившись за живот. В правой стороне, в самом низу, действительно как будто заныло, но Тимофей не верил в эту боль и думал в тревоге: пошлет его председатель на вторичный осмотр или не пошлет? Как будет осматривать доктор – издали, подобно фельдшеру, или вблизи? Удовлетворится ли доктор одним гусем, может быть, потребует пару?
Очень боялся Тимофей потерять свою тихую пристань на скотном дворе.
Вышел доктор. Сказал:
– Товарищи, помните: чем раньше захватишь болезнь, тем легче ее лечить. Прошу заходить в амбулаторию без стеснения во всякое время дня и ночи.
– Покорнейше благодарим, – ответил Тимофей, низко кланяясь, заранее думая расположить к себе доктора.
Доктор стоял перед мужиками, большой и жилистый, стекла его очков отблескивали зеленым, отражая темную листву рябинника. На круглой докторской голове густо рос черный, коротко стриженный волос.
– Только, пожалуйста, никаких подарков в амбулаторию не носить, – добавил он. – Все равно не возьму.
«Тонкой», – подумал Тимофей, подбодрившись. Последние слова доктора он понял иносказательно: в амбулаторию ходи без подарков, а вечерком, значит, забеги на минутку с заднего крыльца…
11
В приемной и в двух комнатах, примыкавших к ней, всюду в изобилии остались нечистоплотные следы фельдшера: давленые клопы, окурки, плевки, обглоданные кости, заскорузлые портянки.
Доктор вышел спать на террасу. Он долго ворочался, раздумывая о своей бродяжьей судьбе.
Четыре года тому назад доктор окончил московский институт и получил путевку в район. Старый испытанный друг провожал доктора на вокзал. В Москве начиналась весна. В просветах между бетоном, стеклом и железом был хорошо виден небесный ледоход. Дворники чистили метлами сточные люки, на мокром асфальте клейко шипели автомобильные шины, народ шел по улицам густо, трамвай подолгу стоял на каждом перекрестке.
– Тебе не повезло, Алексей, – сказал друг.
Доктор сухо ответил:
– Не всем же веселиться в Москве, надо кому-нибудь и работать.
С тех пор доктор не выезжал из деревни, его перебрасывали из района в район, из больницы в больницу, отпуска не давали. Он узнавал о Москве только по газетам и письмам.
Деревня очень наскучила ему. Не совсем ошибался председатель Гаврила Степанович, приписывая горожанам неистребимую страсть к театрам.
12
Пололи картошку. Бабы шли шеренгой, выдирая мягкий лягушатник. Гаврила Степанович тихо позвал:
– Устя!
Она выпрямилась и тыльной стороной ладони сбросила со лба густой пот.
– Иди-ка, Устя, к доктору. Уборщицу требует.
Торопясь успокоить ее, председатель добавил:
– Человек культурный. Не полезет.
Она повела карим горячим глазом.
– Эге! – развеселился председатель. – Да ты, я вижу, не прочь! Смотри, баба!
– Не из тех, – уверенно сказала она. – Идтить, что ли?
Ее собственная изба сгорела в позапрошлом году. Теперь Устинья жила у старухи Трофимовны за шесть рублей в месяц.
Устинья повернула ключ. Загудел замок, крышка, сундука пружинисто отошла. Устинья достала новую кофту с голубым цветком по розовому полю, начистила сажей ботинки и, нарядная, пошла к доктору.
Зря старалась она, прихорашивалась. Сейчас же пришлось бежать домой переодеваться: доктор затеял генеральную уборку.
Кипел бак, урчал самовар, с шипением оседала в тазу мыльная пена. Доктор без пиджака, в одной рубахе, таскал дымящиеся ведра. Устинья хлестала кипятком во все щели, пазы и карнизы, выпаривая клопов и тараканов. Доктор, натужившись, принес четырехведерный бак и грохнул перед Устиньей.
– Небось тяжело? – замирая, спросила Устинья.
– Я здоровый, – ответил доктор. – Я раньше грузчиком на пристанях работал.
На его больших ладонях краснели рубцы от узких ручек тяжелого бака. Он развел широкие плечи, снял очки; глаза у него были как у цыгана, озорные.
– Неужто из грузчиков в доктора можно? – почти прошептала Устинья.
А сердце ее сжималось и падало все ниже; в груди она чувствовала томительную пустоту.
Была она женщина решительная, в поступках прямая, бабьих языков не боялась, имела свой – ух, какой вострый! Она сказала доктору, что переедет жить в амбулаторию, в третью маленькую комнату, где стоит русская печь. Шесть рублей останутся каждый месяц в кармане. Доктор охотно согласился, договорился о личных услугах: самовар, уборка в его комнате, обед и положил за это сверх жалованья, от себя, пятнадцать рублей в месяц.
13
Доктор не обманул мужицких ожиданий. В какую-нибудь неделю он свел лишаи у сынишки Ефима Панкратьева, председателю дал бутылочку соленых капель, и ревматический зуд в председательских ногах полегчал.
С чирьями доктор расправлялся в две минуты – ножом. Скрипнет мужик зубами – и здоров. Выйдет мужик, прислушается к своему телу – боли нет. Успокоение сойдет на мужика, и снова хорошим видит он свой деревенский мир – и волнистые пряди облаков на светлой заре, и синюю смолистую мглу в сосновом бору, и светлый пруд, в котором плавают, роняя тонкий пух и переворачиваясь задницами кверху, разговорчивые домашние утки.
Особенно понравился доктор бабам. Он устроил закрытое женское собрание. О чем толковал он целых три часа – неизвестно, но вышли бабы все умиленные, а Настенька Федосова и Груня Зверькова с удостоверениями, в которых говорилось, что «ввиду беременности означенных гражданок надлежит поручать им работу, не требующую чрезмерного физического напряжения».
Это неправильно говорят, что дурная слава по дорожкам бежит, а хорошая камнем лежит. В наше время наоборот – иной раз о дурной славе знает только суд да тюрьма, а уже хорошая до всякого дойдет, будь он хоть от рождения глухой. На пальцах расскажут.
С самого раннего утра сходились к амбулатории люди – за восемь верст шли, и за десять, и с каждым днем все больше.
– Вот это доктор! – восхищенно говорил председатель на заседаниях правления. И сейчас же серая тень ложилась на его рябое лицо. – Только, боюсь, убежит. Чует мое сердце. Хоть и хороший он человек, а без театра не может. Ты смотри: счетовод сбежал, второй счетовод сбежал, фельдшер сбежал…