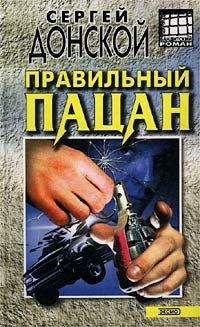Сергей Сергеев-Ценский - Стремительное шоссе
Они были родные сестры, природа строила их в одно время, и как все-таки разнолики были эти три горы.
Самая затейливая была справа.
Машина двигалась от зыбкой морской границы внутрь огромнейшей страны, сплошь охваченной творческим порывом, и эта гора справа была как будто молодость творчества, когда хочется сказаться как можно цветистее и ярче, как можно смелее по мысли, непревзойденно самобытнее по форме, непревзойденно богаче по темпераменту. Она так причудливо на подступах к своим вершинам разбросала угловатые, ребристые, взъерошенные, чуть поросшие соснами и можжевельником скалы, которые дробили солнечные лучи на тонкие лучики, окутываясь ими как паутиной, а потом, ближе к вершинам, она подымала какие-то округлые колонны рядами, за рядом ряд… Ряды эти были косые: они взбирались. Да, если не присмотреться к ним очень внимательно, если только пройтись по ним беглым взглядом, они как будто выполняли строевое движение туда, к вершинам. А вершины тоже имели ажурную, точеную, легкую форму… И все это в колеблющейся гамме тонов от бледно-синих и розоватых до насыщенно-лиловых, индиговых, глубоких… Все и роскошно, и как-то нестройно, и размашисто, и без видимой цели размаха — декоративно, но молодо, — главное, молодо… И как будто сознательно, как будто для того только, чтобы поузорнее разукрасить эту свою кормилицу-гору, снизу, ближе к подошве, какой невозможно крикливый разноцветный ковер разостлали по ней жители большой татарской деревни… Это — клочки пшеницы, кукурузы, ячменя, табаку, винограда, садов, все обнесенные плетнями самых прихотливых извивов… И даже деревня эта, в которой блистали на солнце стекла какого-то длинного белого двухэтажного дома, казалась сознательно затейливо разбросанной, только чтобы как можно смелее и неожиданней.
Гора слева была как творчество, когда молодость уже укрощена и входит в отмеренные границы. Костяк этой горы был уже по-настоящему величав, но бросалась еще в глаза излишняя кудреватость, запутанность ее предгорий, несколько суетливая порывистость ее скатов. Она вся была покрыта буковым и ясеневым лесом, и как будто продолжалось еще в ней творчество за лесами… Она вся была как в теплом зеленом каракуле. Так округлялись огромные кроны деревьев и купы крон, что вся она казалась намеренно шишковатой, и, как два не совсем уверенно еще сработанных купола, венчали ее две вершины, одна — каменная, другая — лесная: не хватило последней смелости остановиться на чем-нибудь одном, — камень — так камень, лес — так лес… Видно было даже и издали, что на этой горе много влаги. Заметно было, что лес дышал, что его дыхание расстилалось кое-где длинной сизой полосою, не позволявшей разглядеть как следует всех линий горы.
Зато гора прямо была как творческая зрелость. Она вставала очень твердая в линиях, осмысленно-простая по рисунку. Она была законченно-монументальна. Ничего нельзя было найти в ней лишнего, сколько бы на нее ни глядеть. Вид ее был строго спокоен. Все в ней было ковано, все каменно, все вечно, — такая спаянность замысла и формы, которая покоряет. Ее цвета были желтый, розовый и синий, но они не кричали: они были положены найденно. Нельзя было бы их ни переставить, ни ослабить, ни усилить, как нельзя было бы передвинуть в общем рисунке ни одной черты. Несколько вершин было у горы справа, две — у горы слева, — у этой же была только одна вершина, похожая на голову мудрого индийского слона.
К этой горе навстречу и двигался фиат.
А море сзади только уж чуть-чуть поблескивало. Его уж нужно было искать глазами, так глубоко упало оно вниз, так ревностно поглощало его небо. И тот городок, из которого они выехали, таким он отсюда казался невсамделишным, игрушечным… Даль очень ловко умеет это проделывать: сглаживать, слизывать, обворовывать, обволакивать, туманить, делать игрушечным и глотать.
Галина Игнатьевна сказала Мартынову, оглянувшись назад и поглядев кругом:
— Из такой красоты и опять на свой серенький север… Буквально, как в детстве оторвали тебя от сказки и вот: «Брось эти дурацкие глупости и занимайся чистописаньем…» У меня, знаете ль, ужасно невозможный почерк, и сколько я ни корпела над чистописаньем, — ни-че-го не вышло… К этому искусству полковых писарей оказалась я неслыханно неспособной… Очень хорошо, что я не учительница, а врач.
— Да, это прекрасно! — живо согласился Марты нов. — Я даже и не знал бы, о чем мне говорить с учительницей… О семилетке? О дальтонплане?
— Ну, конечно! А со мной по крайней мере вы можете говорить о колтуне, об экземе, о деятельности каких-нибудь там пейеровых бляшек.
И она уже готовилась расхохотаться, но Мартынов поглядел на нее круглым голубым взглядом и сказал тихо:
— Нет, я хотел было поговорить с вами о другом.
— О чем именно? — подняла брови Галина Игнатьевна.
Мартынов провел рукой по мощной шее, не стянутой воротом рубахи, и пробормотал глухо:
— Странно… Мы уж на порядочной высоте… а как все-таки жарко и душно…
— Об э-том? — протянула Галина Игнатьевна и расхохоталась очень непринужденно.
Мартынов смотрел на нее, улыбаясь, и говорил:
— Прекрасно вы смеетесь, прекрасно!.. Очень заразительно вы смеетесь.
Миновали татарскую деревню в сотню стареньких домишек, с лениво разлегшимися в сторонке бурыми буйволами, с полуголыми ребятишками, с небольшими клочками виноградников, с красным полотнищем перед сельсоветом. Около этой деревни был оползень, все стремившийся завалить шоссе. Человек десять с тачками работало тут, и шоссе справа обросло широкой насыпью из черной и жирной шиферной глины.
— Вы ведь не поверите, пожалуй, как и никто не верит, что лет двадцать назад я, только что с университетской скамьи, послан был в Крым умирать от чахотки, — сказал Мартынов Галине Игнатьевне.
— Вы-ы?.. Че-пу-ху мелете!
— Не чепуху — факт!.. Но кому же хочется умирать не живши? Я занялся спортом. Я не поэт там какой-нибудь и на море нежными глазами не глядел и не вздыхал… Я, знаете ль, окунулся в него с головой и поплыл… И плавал, и пла-вал, и пла-вал, как пароход… И вот, как видите, я благополучен. И когда я вижу туберкулезного, я говорю ему: спорт… Спорт или гибель, как вам будет угодно.
— Ха-ха-ха! Я теперь тоже буду давать такие советы туберкулезным в третьей стадии.
— Ну, хотя и не в третьей, и я, разумеется, не был в третьей, а все-таки давайте. И что такое красота тела, если в нем червяк… Совсем не шутя я считал и считаю весьма корявого Геркулеса гораздо красивее, чем какой-то там Аполлон Бельведерский. А красивейшая женщина, какую я видел, — это… это, позвольте, где, уж не помню, — вообще в каком-то из «Огоньков» мне попался снимок с современной скульптуры… Стоит, понимаете ли, этакая бабища, ручищи сложила, как Наполеон, ножищи у нее слоновьи… Любую печку об нее расшибешь… Вот она, наша Венера Московская… Смеетесь? Смейтесь, вам это идет. Но все-таки я плотную икроножную мышцу предпочитаю всяческой там томности… которая походя мышьяк себе вспрыскивает да кали иодати хлещет… Вот вы врач и производите свои там операции, конечно, и приходится вам, я думаю, часто говорить своим пациенткам: «Терпи и не ори…» А такой операции, какая у нас сейчас производится над человеком, для его явной, разумеется, пользы, такой тонконогим не выдержать, нет… Колоссальнейший идет для будущего отбор, и, заметьте, только красота уцелеет. То есть сила, выносливость… то есть неутомимость, вот что… То есть скорее всякая там неуклюжесть, косолапость, только ни в коем случае не тонконогость, которая неминуемо должна будет погибнуть и погибнет.
— Дуня! — живо обернулся Митрофан назад. — У тебя как там насчет ног происходит?
— А ты не видал? — отвернулась Дуня.
— Да я как-то не разглядел.
— Ну, придет время, гляди лучше.
И Дуня сделала сердитое лицо.
Шоссе в этом, насквозь пронизанном солнцем молодом дубовом лесу, кое-где освободившем для лугов небольшие поляны, взбиралось кверху совершенно невообразимыми петлями, почти восьмерками. Машина поднималась по ним осторожно и медленно. Сирена ее почти безостановочно гудела. То и дело попадались встречные легковые машины и грузовики, и дубовый лес кругом наполнялся этим тревожным завыванием сирен.
Когда-то сделанное для лошадиной тяги шоссе теперь выпрямляли, разматывали петли. Вырубались и вывозились деревья, делались большие выемки.
Показалась и такая партия землекопов, — все юнцы, лет по семнадцати, обнаженные по пояс: делали подбои кирками в одном сильно каменистом месте, а немного дальше — другая партия — девочки того же возраста, в купальных костюмах. Они работали строго, только глянули исподлобья на старенький фиат.
— Это кто такие? — спросила Брагина Торопова.
— Это? Студенты дорожного техникума… и студентки… на практике… Я уж их видел раньше, — сказал Торопов. — У них, конечно, идет соревнование, а как же! И девчата ни за что не уступят, не таковские… Ах, как мало у нас людей рабочего возраста! Ошеломляюще мало… В это мы уперлись лбом. Страна наша потрясающе богата, но и огорчающе огромна. Сколько нам надо людей, чтобы освоить ее в кратчайший, как мы себе поставили, срок! И ничего нам не хватает: ни рабочих, ни угля, ни железа, потому что мы растем, растем и растем, и без конца намерены расти, черт возьми… Мы точек себе никаких впереди не намечаем, и пусть их никто от нас не ждет… У нас могут быть кочки, но не точки… Кстати, кочки… что-то такое я недавно узнал о кочковатых болотах, чего еще не было в газетах… А-а, да! Опыты нашего ученого Ридегера… Он, видите ли, заложил несколько опытных рисовых полей на болотах средней полосы, — рисовых, заметьте: на Волыни, на Припяти, на Оке под Рязанью, где-то под Курском и, наконец, и это самое важное, под Москвой, представьте! Есть такая речонка у нас — Яхрома, — на ней… И в результате — рис созрел, и даже, если память мне не изменяет, на Припяти раньше, чем на Волыни, а под Рязанью раньше, чем под Курском, но это уж зависело от высоты места. И в ре-зуль-тате рис передвинут, значит, на десять параллелей на север. Вот вам и опыты скромного советского ученого! Сейчас мы сеем рис на Кубани… с аэропланов… а года через два-три мы, может быть, все болота наши осушим и засеем рисом… И вывозить его будем куда угодно… Когда это было раньше, а?.. Положительно, наше время — это такое время, когда кажется, что и занятия-то более простого нет, как делать открытия… Один философ новейший определил человека, как существо инструментальное… Плохо! Устарело… Я бы внес дополнение: человек — это такое животное, которое каждый день в своей жизни делает открытие и каждый час во дню что-нибудь изобретает…