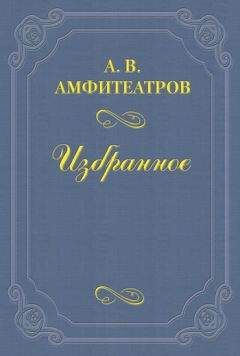Александр Исетский - Буран
Корзухин, поправив оттянутый наганом пояс, уставился в приказ.
— Читай вслух, — предложил Кляпа. — Слушай, ребята, приказ.
— Вот что, Никша, — обернулся Корзухин, — парень ты боевой и грамотный, а порешь горячку. Ты думаешь, бронепоезд уж такая крепость, что и не взять его японцам.
— Мы думать не умеем, — пускай в штабах думают, — отрезал Кляпа, пряча руки в карманах широких шаровар.
— Не умеешь, так учись. Ведь, по сути говоря, значение бронепоезда не столько в стрелках, сколько в его артиллерийском и пулеметном огне.
— Ты что же хочешь сказать, дорогой военком? — оскалил частокол зубов Степан Решето. — Ежели намекаешь, что артиллеристы и пулеметчики не партизаны, то это напрасно. Давай посади — увидишь, как они крыть умеют. Ребята, военком сумневается, что мы, кроме как из пулемета, не из чего другого стрелять не умеем.
Круг вновь загудел и заволновался. Корзухин знал нутро тайгачей. Только Шулятиков мог изменить настроение отряда. С ним он и решил переговорить.
Выйдя из круга, Корзухин встретил наводчика Костюкова и машиниста поезда Хребтова и вместе с ними пошел к хвосту поезда. Сзади, заняв середину круга, Кляпа кричал насмешливо:
— Большевистская партия пошла Ваську уговаривать, но только не знают они Васьки. Он без нас все едино не решит. Не-ет...
Степка Решето, неистово ругаясь, песенно выкрикивал:
Побьем — попьем,
Отступать — сдыхать.
Ваську Шулятикова военком и его товарищи нашли под насыпью в кустах. Он недружелюбно взглянул на подошедших, — до их прихода он думал о приказе. Сделав десяток выкладок и расчетов, Васька остановился на следующем плане. Отряд Дубача в двести человек на левый фланг к лесу, четыреста красильниковцев на правый к Амуру, в центре бронепоезд, а в городе оставить Щелкунца, он на конях везде успеет. Ночью Васька скатится под уклон к разъезду, половину отряда высадит и сыпнет на калмыковскую кучу с тылу, кроя артиллерийским огнем по левому японскому флангу. Победа казалась Ваське неотвратимой, а это значило, что город не будет отдан, по крайней мере, дня на два, а там подтянутся регулярные части, укрепятся и... Тут Васька даже зажмурился, предвкушая похвалу в приказе и уж, конечно, не бобровую папаху, а по меньшей мере золотое оружие и славу по всему фронту.
Васька наяву и во сне чувствовал себя большевиком.
Знал, за какую идею идет, но в партию не вступал, считая, что это простая формальность, которую он выполнит когда-нибудь, на мирном положении. Была и еще одна причина и, пожалуй, самая главная — боялся Васька партийной дисциплины, считая, что она свяжет его по рукам.
«На фронте нужна стратегия, а в тылу пусть орудует партия, организует, агитирует, вербует...» За этими мыслями военком и застал его. Появление Корзухина напомнило Ваське нерешенный и забытый им вопрос: «Как быть с политическим контролем? Он обязательно помешает. Вообще военком полезная личность: беседы там разные, обмундирование исхлопотать, надавить на тыловые учреждения, а в обстановке боя...» Поймав на себе взгляд комиссара, Шулятиков неторопливо поднялся с земли и кинул на ходу:
— Я, товарищ Корзухин, сейчас.
Он ловко забрался на откос и юркнул под товарный состав, думая, что Кляпу и Решето надо послать в отряды Красильникова, Дубача и Щелкунца немедля, а то будет поздно.
Кроме военкома, на бронепоезде было еще двое коммунистов — Костюков и Хребтов.
Пока Васьки не было, военком обсудил с ними положение на поезде. Тройка пришла к выводу, что о намерении Васьки надо на всякий случай сообщить в штаб фронта.
Васька вернулся веселым и, попыхивая сигаретой, примиряюще выбасил:
— Ладно, Корзухин. Знаю, ты насчет приказа. Выполним. А ты бы вот что... — и, подмигнув Хребтову, он изложил Корзухину просьбу о спирте для отряда. — Все равно выльют, как отступать зачнем, а нам это дороже роты подкрепления.
— Можно будет, но только затею свою ты, Васька, брось. «Красноярец» нам еще пригодится. И, кроме того...
Шулятиков прервал:
— Знаю... опять о дисциплине и штабе. Не беспокойся: все будет, как по уставу. Да ты иди-ка к поезду, я их уговорил, а что касается меня — прости. Веришь — обида: давно ли из тайги и опять... — Шулятиков не договорил и, скрежетнув зубами, шагнул на насыпь.
Корзухин, обескураженный поспешным согласием Шулятикова выполнить приказ, не успел высказать ему своих соображений о последствиях, которые угрожают всему фронту, если бронепоезд останется. Он почему-то не верил в искренность обещания Шулятикова и предупредил об этом Костюкова и Хребтова.
— А как поступить, товарищ Корзухин, — спросил Костюков, — если эти удалые ребята все же не подчинятся приказу?
Медленно шагая между вагонами, Корзухин думал, что ему делать, если Шулятиков все-таки решится обмануть его. Остаться на поезде означало разделить не очень радостную участь. Уйти с поезда — еще хуже, это значило потерять его.
— Я так думаю, — прервал молчание Хребтов, — с поезда нам уйти никак нельзя.
— Да, да, — согласился -военком, — бросить поезд это будет дезертирство. Сменить Шулятикова? В настоящих условиях это невозможно. На всякий случай я все же съезжу к военкому броневого дивизиона, а вы тут понюхайте, поговорите, может, что и узнаете.
И он скрылся под вагоном.
Вечерняя заря медленно, словно нехотя, угасала. С притушенными огнями станция могла бы показаться мирно уснувшей, если бы не шаркающие звуки в проходах между вагонами. Тяжело волоча ноги, проходили цепи отступающих бойцов.
Комендант станции с двумя спутниками торопливо, почти бегом, обходил составы, проверяя, не остались ли вагоны с грузом. Иногда полоска света от его фонаря падала на проходивших бойцов, и тогда можно было видеть угрюмые, упорно-сосредоточенные лица.
Скоро снялся и медленно поплыл к зеленому огоньку семафора состав порожняка. Следом за ним, волоча непомерно длинную тесьму вагонов, пошел другой. К двенадцати часам покинул станцию последний состав, линии путей оголились, и только напротив станции чернело длинное тело бронированного «Красноярца». Паровоз густо чадил и изредка выталкивал клубы пара. Они медленно обволакивали холодное чудовище и таяли.
По обе стороны поезда незримо ходили в сумерках часовые, и казалось, что «Красноярец» безлюден, потерял силу движения и в бессильной чугунной ярости грозит кому-то остывшими стволами из мертвых бойниц.
В час ночи «Красноярец» тяжело вздохнул, выпихнул клубы дыма и искр, дрогнул и подался в сторону ушедших эшелонов, но вдруг неожиданно дернулся назад, и из-под щита, прикрывавшего вход на паровоз, на перрон станции выпал человек.
Поезд скоро сгинул в темноте, а человек медленно поднялся на руках и, обессиленный этим напряжением, снова упал, зло ругаясь: «Тайгачи проклятые...»
Отряд Красильникова отошел в Засушливый лог на час позже срока. Вызванный в штаб Красильников объяснил опоздание тем, что ему пришлось уговаривать свой отряд отбросить безумную затею Шулятикова. О своем решении он послал известить Шулятикова, но посланный не вернулся, и он, Красильников, не знает, где «Красноярец» и отряд Дубача.
Со стороны Красной Речки, вспыхнула канонада и вскоре смолкла. На взмыленных конях прискакали щелкунцы. Подобранный на станции и привезенный ими Хребтов сообщил, что «Красноярец» ушел в сторону японцев, а его, когда он попытался пустить поезд в сторону своих, чем-то оглушили и выбросили на полотно дороги.
Отряд Щелкунца был обезоружен и отправлен в тыл. Красильникова арестовали и оставили при штабе.
В пять часов утра за рекой загромыхала японская батарея.
Выждав до шести, командование приказало взорвать обе фермы железнодорожного моста. Вместе с фермами была взорвана и надежда на возвращение «Красноярца».
На второй день с берега был доставлен в штаб совершенно голый человек, переплывший ночью реку и вышедший на сторожевой пост. Он назвал себя Семеном Никулиным, партизаном из отряда Дубача. Штабной писарь дал ему пару белья. Партизан натянул на густоволосатые ноги несоразмерно узкие бязевые подштанники, влез черной вихрастой головой и широкими плечами в не менее узкую рубаху и, виновато взглянув на писаря, попросил хлеба.
Несколько человек с любопытством наблюдали, как он рвал хлеб, глотая его непрожеванным. По мере уменьшения буханки, глаза партизана наполнялись светом и благодарностью.
Пришел адъютант и приказал отвести Никулина в вагон начальника штаба.
— Так дубачевец, значит, будешь? — строго спросил начштаба. — А как Дубача зовут и каков он на физиономию будет?
— Физиономией, аль рожей, наш начальник на пенек обомшелый смахивает, до того зарос и до того щадривый. А звать его Константином. Да ты что, товарищ, — спохватился Никулин, — не веришь, что я партизан? А это что? — задрав рубаху, повернул он спину к Лебедеву. По спине, наискось, от лопатки до пояса, тянулся заросший рваный шрам.